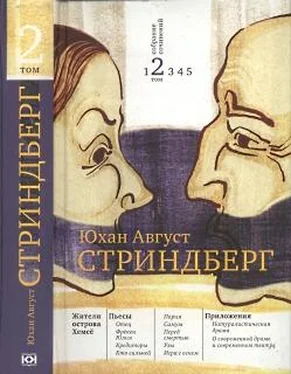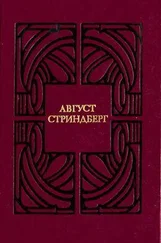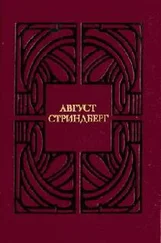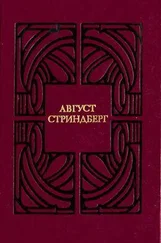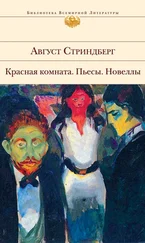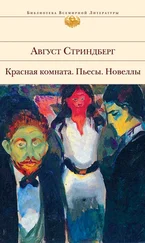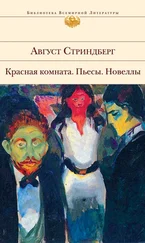Карлсон счел за лучшее удовольствоваться наполовину выигранной победой и пока спрятал другой заряд.
Теперь они вошли в сосновый лес, где в расщелинах некоторых валунов еще лежал грязный снег, усыпанный опавшими иглами. Под жгучими лучами апрельского солнца сосны уже выделяли смолу; а под кустами орешника сквозь прогнившую листву выглядывал трилистник. Из-под моха поднималась теплая влага; сквозь стволы деревьев видно было, как над забором дрожало сияние воздуха; дальше синела морская даль, слегка колеблемая ветерком; белка шуршала в ветках, а зеленый дятел постукивал своим клювом по стволу сосны.
Старушка семенила по тропинке, по иглам и корням. Карлсон, шедший за нею, видел, как при каждом ее шаге мелькали подошвы и исчезали под подолом платья. Тогда ему пришло на ум, что вчера она показалась ему старше.
— Тетка, однако, быстра на ноги,— сказал Карлсон, выражая этим свое настроение, внушенное красотами весны.
— Что он говорит! Можно подумать, что он заигрывает со старой бабой.
— Нет, я всегда говорю то, что думаю,— сказал Карлсон убежденно.— Поспевая за теткой, я весь вспотел.
— Мы дальше не пойдем,— ответила старуха и остановилась, чтобы перевести дух.— Отсюда Карлсон может осмотреть лес; сюда мы сгоняем летом скотину, когда она не пасется на островках.
Карлсон окинул лес взглядом знатока — он нашел, что там очень много валежника и что на корню хороший строевой лес.
— Но какой плохой уход! Хворост валяется в таком беспорядке, что тут всякий себе шею сломит!
— Теперь Карлсон сам видит, в каком положении дело. Пусть он управляет, как найдет нужным, и пусть строго смотрит за делом. Он все приведет в порядок, в этом я уверена! Не так ли, Карлсон?
— Я уж дело свое буду делать, лишь бы другие работали! А для этого вы должны мне помочь, тетка,— сказал в заключение Карлсон.
Он сознавал, что нелегко ему будет отвоевать себе положение военачальника, так как рядовые давно на местах.
Среди непрерывной беседы о том, каким образом и каким способом вступит Карлсон в управление и будет охранять свое начальническое положение, вернулись они домой. Карлсон старался внушить старухе, что это начальническое положение является главным условием для процветания мызы.
Теперь должна была быть прочитана проповедь, но из мужчин никто не явился. Оба стрелка с ружьями пошли в лес; Рундквист, как всегда, скрылся где-то на освещенной солнцем горе. Так было всегда, когда надо было выслушать слово Божие.
Карлсон уверял, что можно обойтись и без слушателей, а что если не затворять двери, то, пока горшки будут закипать в печке, девушки тоже услышат кое-что из прочитанного.
Когда старуха выразила свое сомнение по поводу того, сможет ли она прочесть, то Карлсон сейчас же выказал готовность это исполнить.
— Ага! Я на прежнем своем месте часто читал проповеди; это меня не затруднит.
Старуха раскрыла календарь и отыскала текст этого дня, а именно второе воскресенье после Пасхи, посвященное доброму пастырю.
Карлсон взял с полки лютеранскую книгу проповедей и сел на стул посреди комнаты; тут мог он воображать себе, что его хорошо услышат и увидят его подчиненные. Затем он развернул книгу церковных песнопений и запел громким голосом текст писания снизу доверху по всей гамме, как это делали при нем однажды приезжие проповедники и как ему уже приходилось самому делать.
— «И сказал Господь пришедшим к нему иудеям: Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит».
Поразительное чувство личной ответственности охватило чтеца, когда он произнес следующие слова: «Я есмь пастырь добрый». Он многозначительно взглянул в окно, как будто желая увидеть обоих отсутствующих наемных рабочих, Рундквиста и Нормана.
Старуха грустно кивнула головой и взяла кошку к себе на колени, как бы принимая в свои объятия заблудшую овцу.
Карлсон же продолжал читать дальше дрожащим от волнения голосом, как будто он сам написал эти строки.
— «А наемник бежит — да, он бежит,— повторил он,— потому что наемник (почти крикнул он) не радеет об овцах».
— «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня»,— продолжал он уже наизусть, так как он эти слова знал по катехизису.
После этого он уже продолжал слабым голосом, опустив глаза, как бы глубоко страдая за злобу людскую, и вздохнул. Особое ударение, которое он придавал словам, выразительные взгляды по сторонам указывали на то, что он с болью в сердце указывает на неведомых злодеев, не желая их открыто обвинять.
Читать дальше