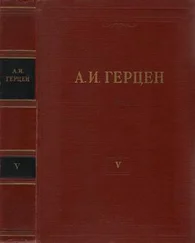Рассказанная им история этой помешавшейся девушки немало взволновала меня при чтении; но когда я прибыл в места, где она жила, все с такой силой снова встало в моей памяти, что я не в силах был противиться порыву, увлекшему меня в сторону от дороги к деревне, где жили ее родители, чтобы расспросить о ней.
Отправляясь к ним, я, признаться, похож был на Рыцаря Печального Образа, пускающегося в свои мрачные приключения, — но не знаю почему, а только я никогда с такой ясностью не сознаю существования в себе души, как в тех случаях, когда сам пускаюсь в такие приключения.
Старушка мать вышла к дверям, лицо ее рассказало мне грустную повесть еще прежде, чем она открыла рот. — Она потеряла мужа; он умер, по ее словам, месяц тому назад от горя, вызванного помешательством Марии. — Сначала она боялась, добавила старушка, что это отнимет у ее бедной девочки последние остатки рассудка — но это, напротив, немного привело ее в себя — все-таки она еще не может успокоиться — ее бедная дочь, сказала она с плачем, бродит где-нибудь возле дороги —
— Отчего же мой пульс бьется так слабо, когда я это пишу? и что заставило Ла Флера, сердце которого казалось приспособленным только для радости, дважды провести тыльной стороной руки по глазам, когда женщина стояла и рассказывала? Я дал знак кучеру, чтобы он повернул назад, на большую дорогу.
Когда мы были уже в полулье от Мулена, я увидел в просвет на боковой дороге, углублявшейся в заросли, бедную Марию под тополем — она сидела, опершись локтем о колено и положив на ладонь склоненную набок голову — под деревом струился ручеек.
Я велел кучеру ехать в Мулен, — а Ла Флеру заказать мне ужин — объявив ему, что хочу пройтись пешком.
Мария была одета в белое, совсем так, как ее описал мой друг, только волосы ее, раньше убранные под шелковую сетку, теперь падали свободно. — Как и раньше, через плечо у нее, поверх кофты, была перекинута бледно-зеленая лента, спадавшая к талии; на конце ее висела свирель. — Козлик ее оказался таким же неверным, как и ее возлюбленный; вместо него она достала собачку, которая была привязана на веревочке к ее поясу. — «Ты меня не покинешь, Сильвио», — сказала она. Я посмотрел Марии в глаза и убедился, что она думает больше об отце, чем о возлюбленном или о козлике, потому что, когда она произносила эти слова, слезы заструились у нее по щекам.
Я сел рядом с ней, и Мария позволила мне утирать их моим платком, когда они падали, — потом я смочил его собственными слезами — потом слезами Марии — потом своими — потом опять утер им ее слезы — и, когда я это делал, я чувствовал в себе неописуемое волнение, которое, я уверен, невозможно объяснить никакими сочетаниями материи и движения.
Я нисколько не сомневаюсь, что у меня есть душа, и все книги, которыми материалисты наводнили мир, никогда не убедят меня в противном.
Когда Мария немного пришла в себя, я спросил, помнит ли она худощавого бледного человека, который сидел между нею и ее козликом года два тому назад? Она сказала, что была в то время очень расстроена, но запомнила это по двум причинам — во-первых, хотя ей было нехорошо, она видела, что проезжий, ее жалеет, а во-вторых, потому, что козлик украл у него носовой платок и за кражу она его прибила — она выстирала платок в ручье, сказала она, и с тех пор всегда носит его в кармане, чтобы вернуть моему знакомому, если когда-нибудь снова его увидит, а он, прибавила она, наполовину ей это обещал. Сказав это, она вынула платок из кармана, чтобы показать мне; она его бережно завернула в два виноградных листа и перевязала виноградными усиками, — развернув его, я увидел на одном из углов метку "Ш".
С тех пор она, по ее словам, совершила путешествие в самый Рим и обошла однажды вокруг собора Святого Петра — потом вернулась домой — она одна отыскала дорогу через Апеннины — прошла всю Ломбардию без денег — а Савойю, с ее каменистыми дорогами, без башмаков — как она это вынесла и как преодолела, она не могла объяснить — но для стриженой овечки , — сказала Мария, — бог унимает ветер .
— И точно стриженой! До живого мяса, — сказал я. — Будь ты на моей родине, где есть у меня хижина, я взял бы тебя к себе и приютил бы тебя: ты ела бы мой хлеб и пила бы из моей чашки — я был бы ласков с твоим Сильвио — во время твоих припадков слабости и твоих скитаний я следил бы за тобой и приводил бы тебя домой — на закате солнца я читал бы молитвы, а по окончании их ты играла бы на свирели свою вечернюю песню, и фимиам моей жертвы был бы принят не хуже, если бы он возносился к небу вместе с фимиамом разбитого сердца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу