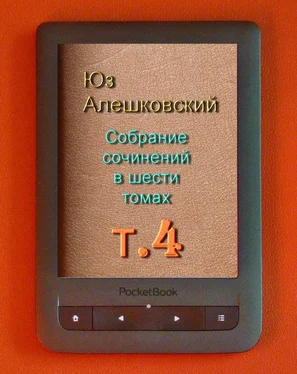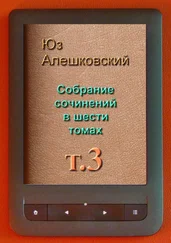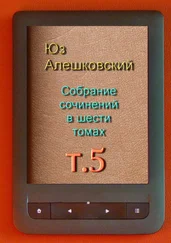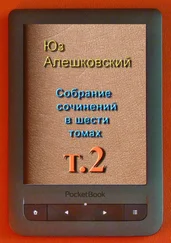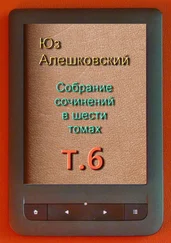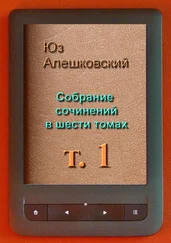Они – несправедливо было бы позабыть об этом – тоже втянуты в это трагикомическое бесповоротное следование черт знает куда не по своей воле, но по добровольно унаследованной инерции, и, однако ж, позвольте спросить, господа, как воскликнул однажды в пустопосудной очередище молодой разжалованный социолог, позвольте вас спросить: сколько нам с вами еще грохотать всеми мослами по горбатой одноколейке пятилеток вслед за пыхтящим, гудящим и смердящим правительством без наличия у нас – дай-то Бог, чтобы только не у него, – естественнейшей из возможностей – возможности остановиться, отдохнуть и по сторонам оглядеться, а быть может, и хлебнуть животворного кипяточка реформ, макая в эту душевнейшую из жидкостей несчастный замусоленный сахарок и черствый хлебушек жалких наших и скромных социальных надежд?.. Сколько?.. Куда ты несешься, правительство?.. Кто тебя остановит?.. Нет ответа…
Вдруг моему знакомому удалось непонятным для него образом – то есть благодаря мгновенному удачному совмещению разных мелких обстоятельств жизни, а может быть, после тайно заключенной конвенции между живою плотью большого плененного пальца и отверстием в монументе – неожиданно удалось высвободиться. Высвободившись, он подтянулся, позабыв про боль в пальце, и, разумеется, не мог видеть, как кровь из него – она просто била из порванного сосудика – вымазала бронзовую шинель «железного» чекиста.
Высота для бывшего альпиниста была смехотворно небольшой. Он скинул с ноги наземь второй штиблет, чтобы не скользил по металлу плеча, встал во весь рост на это плечо, держась за правое массивное ухо и несколько возвышаясь над засоренным птицами затылком. Он чувствовал еще острее, с тоскливою ущемленностью сердца, не только ничтожество свое и бесчеловечную несоразмерность с мертвым изваянием – чувство, внушенное всем нам с юных лет чтением поэмы А.С. Пушкина, – но, не выпуская еще из зубов куска обоев в желтый, синий и красный цветочек, чувствовал он нахождение существенно уменьшившейся в размерах фигуры своей под всесильной защитой любимой громадины.
Громадина же слегка подрагивала от сотрясения автомобилями поверхности земли, подрагивала слегка от подземного движения поездов метро и возносила моего знакомого над всем центром столичного города. В ней то взвывало что-то, то глухо гудованило, то обширно и ровно шумело от проникавших в нее каким-то образом сквозь дырки в металле звучаний внешней городской жизни.
Молча, со сверкающими глазами и так и рвущимися из груди рыданиями – рыданиями духа, вознесшего мысль над животной толпою, – обозревал он удаляющийся вниз проспект. Погрозил свободной рукою «первосамиздатчику» Ивану Федорову и толпившимся под ним даже в праздничные дни книжным червям черного рынка, фамильярно поприветствовал не видного за углом гостиницы, но уже отшибающего от себя на мостовую нимбы вечерней подсветки Кырлы, как говорим мы, Мырлы, глянул на застывшую все в той же крайне недоуменной позе собаку и только тогда, абсолютно уверенный в том, что на него в этот вот самый миг направлены взгляды правительства, а также «хамски вытолкнувших его из себя научных кругов, близких к философии истмата», взял он в свободную руку кусок обоев, а уж развернул его подвешенный снизу в виде груза штиблет.
Из высвобожденного рта моего знакомого сами собой вырвались натуральные рыдания, сотрясавшие его грудь и заставившие собаку вопросительно что-то пролаять.
В этот момент все наконец устроилось так, что первый какой-то наблюдательный обыватель случайно заметил взгромоздившегося на Феликса Эдмундыча человека. Всего его в тот же миг высветил из мрачных сумерек свет всех прожекторов. И разом стало видно и лицо этого человека, которое было искажено то ли странным смехом, то ли возвышенным страданием, то ли безумным смешением на лице и того и другого, как это бывает с лицами клоунов-эксцентриков, и стало также видно, что форма на человеке генеральская – сверкает всякое золотое шитье на мундире, ордена и медали… на брючинах, треснувших на коленках и ужасно потрепанных снизу, алеют, как положено, лампасы… фуражка, над которой взвихрились волосы, похожа, скорее, на пляжный такой ободок с солнцезащитным козыречком, а не на генеральский высокомерный головной убор, но… «что бы все ж таки означала подобная по-зу-мен-та-ци-я?… что бы означала все ж таки сия пропаганда и агитация в афористическом виде?..»
Первому обывателю, бывшему, как и все почти пристроившиеся к нему другие обыватели, под приличной балдой, почудилось сперва, что фигура эта странная с транспарантом, стоящая босиком на плече всем приевшегося памятника, есть часть репетируемых сегодня олимпийских новаций, может быть даже – костюмированный намек иностранному гостю на то, что очеловечивание наших и без того гуманных органов находится нынче на небывалой высоте…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу