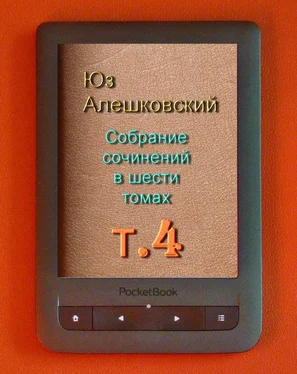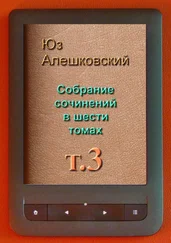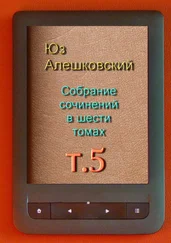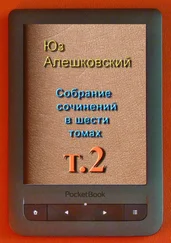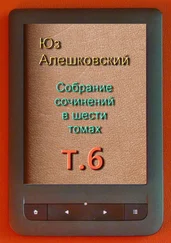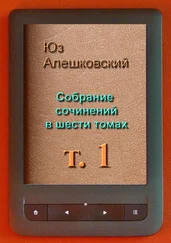«Ах, Кант? Ах, Кант? – вновь хохотнул он. – Вот ты у меня поапперцепствуешь, как мы наловчились трансформировать твою вещь-в-себе в вещичку-для-нас… эрго: мы идем дружной кучкой по краю пропасти…»
Сказав это, он по-собачьи зажал в зубах свиток с чудесным открытием, штиблет затолкал за пазуху, натянул веревку, то есть оранжевый трос, ухватился за него покрепче, уперся одною обутой, а другою разутой ногою в подножие монумента, постоял так под большим наклоном к земле, собираясь с силами – силы-то у него после «излечения» были далеко уж не те, – и вдруг просто взмыл до самой груди бесчувственной фигуры. Обосновался голым носком ступни на какой-то выступающей детали то ли чугунной, то ли бронзовой шинельки. Передохнул. Помахал рукою Алкашу, вытянувшему вверх морду, словно в предуготовлении к недоуменному вытью. Затем с маху одолел последнюю крутизну, обхватил руками действительно засранную голубем и воробьем да к тому же мокрую и холодную от сумеречной росы шею, укрепил, вернее, втиснул большой палец ноги в пуговичную, как показалось ему, петлю и проклял себя в тот же миг за такую мелкую под-страховку. Большой палец застрял в дырке и никак не вытаскивался, а дергать его стало вдруг очень больно. Дотянуться же до него как-либо и повертеть руками до полного высвобождения не представлялось возможным. Опереться на что-нибудь хоть как-нибудь тоже было, как говорится, не на что.
Мой знакомый хотел было трагически раскинуть в разные стороны руки, как бы давая понять самому Року, что победа его над ним окончательна и несомненна, но, слава богу, моментально смекнул, что рук, обвившихся вокруг громадной шеи, ни в коем случае разнимать не следует – сразу шмякнешься и еще повиснешь башкою вниз на одном каком-то ничтожном ножном отростке, застрявшем в ничтожной выемке, может быть, даже в дырке, допущен-ной при литье советскими нашими халтурщиками… Э-э-эх…
От бесконечно сардонической усмешки во весь рот, столь любимой всеми почти стебанутыми людьми, его тоже удержала боязнь, что свиток выпадет, как только залыбишься, из зубов – и тогда все будет кончено.
Совершенный же ужас положения был в том, что знакомому моему следовало схватиться вновь за трос и спуститься всего-навсего на три несчастных сантиметра вниз – палец само собою и выскочил бы при этом из ловушки, – а не выдергивать его кверху, словно пробку, от чего он только нестерпимо больно вывихивался.
Но дело-то все было в том, что большинство безумцев почему-то лишены нормальной способности хоть сколько-нибудь обратимо мыслить и действовать даже в примитивных умственных и житейских ситуациях. Дьявольская какая-то сила заставляет их еще больше и хитроумней утверждаться во всем бредовонавязчивом, сардонически же ухмыляясь над нашими попытками сердобольно возвратить их к действительности. Сила эта обезоруживает и их самих, когда вдруг задумывают они совершить самоубийство, и нас, пытающихся всякими разумными доводами удержать несчастных от безумного шага. Иной безумец, остолбенев от ему одному известного видения либо от соблазнительной мысли, от которых нормальный грешник нехотя и с зубовным скрипом, но всенепременно открестился бы, движется и движется неостановимо, хотя возможностей-то остановиться, – думаем мы, тоже остолбеневая от ужаса, – миллионы вокруг, он все неостановимо движется, и ничто не может его устрашить в этом роковом движении – ни казнь, ни гибель под колесами поезда, ни муки пожизненного гниения в дурдоме, ни весьма доказательные картины разверстого ада, ни страдания и вечная пытка укорами совести всех его близких… Он движется, и шаги его и мысли необратимы.
Да что, собственно, говорить об одиноких несчастных безумцах, когда целые сообщества людей ведут себя не менее загадочно и самоубийственно даже в наши, самодовольно гордящиеся своей просвещенностью времена, а от людей, правящих этими сообществами, то есть от политических лидеров и от правительств, вроде нашего правительства, за версту уже несет, уже шибает вам в носопырку не-обратимостью… необратимостью… необратимостью, которою пропитаны они сами с ног до головы, и мысли их, и бешеная их утвержденность в бредово-навязчивом, а главное – самоубийственное движение к немыслимой жизнедробилке и бойне.
Они движутся. Они движутся, насильно вогнав нас в жуткие свои стези и сделав нас – хихикаем, господа, сардонически – замудоханной частью этого унизительного движения, не лишенной некоторого здравомыслия, совести, духовного беспокойства и тоски по достоинству и свободе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу