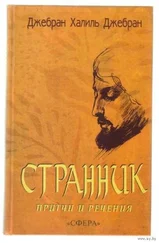И я хранил молчание, ибо глубокие, бескрайние чувства теряют частицу духовной силы, будучи воплощены в слова. Но был уверен, что Сельма внимает в тишине призывам моего сердца и видит в моих глазах дрожащее отражение души.
Вскоре из дома вышел Фарис Караме и направился к нам; как обычно, радушно приветствуя меня и протягивая руку, он, казалось, благословлял тайну, связывающую мой дух с духом его дочери.
- Добро пожаловать, сын мой, прошу к столу, - улыбаясь, сказал он,- Ужин ждет нас.
Мы встали и последовали за ним, и Сельма смотрела на меня из-под век, с такой нежностью, как будто слова «сын мой» пробудили в ней сладкое чувство, объявшее ее любовь ко мне, как руки матери - хрупкое тельце ребенка.
За ужином мы наслаждались изысканными блюдами, пробовали выдержанные вина, но мысли наши были не здесь. Невольно мы думали о будущем, готовясь к встрече с его кошмарами. На подмостках души разыгрывалась трагедия. Ум героев, слабых и наивных, связанных между собой прочными сердечными узами, был переизбыток чувств, но им не хватало опыта. Благородный старец. Он любит свою дочь, помышляя только о том, чтобы сделать ее счастливой. Двадцатилетняя девушка. Будущее ее неопределенно, и она пытается понять, что - счастье или горе - ждет ее впереди. Беспокойный юный мечтатель, еще не вкусивший ни вина, ни уксуса жизни. Он взмахивает крыльями, готовясь взлететь в пространство любви и знания, но по слабости своей не может оторваться от земли.
Таковы были те трое, что сидели за богатым столом в загородном доме, окутанном тишиною сумерек, открытом для взоров неба. Все трое вкушали яства и пили вино, не ведая, что на дне блюд и сосудов Провидение припрятало для них горечь и тернии.
Мы все еще сидели за столом, когда одна из служанок, войдя к нам, обратилась к Фарису Караме:
—У ворот человек, который хочет видеть тебя, господин.
— Кто он? — спросил старик.
— Похоже, слуга архиепископа, господин.
Фарис Караме испытующе посмотрел на дочь — так пророк в ожидании знамения глядит на небо.
— Проси его.
Служанка удалилась и вот в столовой появился внушительного вида мужчина с закрученными кверху кончиками усов, в расшитой позументами одежде,. Он поклонился и, Фарису Караме, сказал:
— Его Преосвященство просит почтить его визитом для разговора о важных делах. За Вами прислан личный экипаж...
Старик встал, изменившись в лице. Его улыбка исчезла, уступив место задумчивой сосредоточенности.
— Надеюсь, вернувшись, застать тебя здесь,— сказал он, обращаясь ко мне с обычной для него приветливостью — Сельма найдет в тебе собеседника, чьи рассказы скрасят уныние вечера, а душа разгонит призраки одиночества и уединения.— Не так ли, Сельма? — спросил он, улыбнувшись дочери.
Сельма опустила голову. Щеки ее покрылись легким румянцем. Нежно, как пение свирели, прозвучал девичий голос:
— Я постараюсь, чтобы нашему гостю не было скучно, отец.
Старик вышел, сопровождаемый слугой архиепископа. Сельма
стояла у окна, пока экипаж не скрыла пелена мрака; когда же в отдалении смолк шум колес и тишина поглотила цокание лошадиных копыт, она пересела поближе ко мне в кресло, обитое зеленым бархатом; в своем белоснежном платье дочь Фариса Караме представлялась мне лилией, склонившейся стеблем к траве от дуновения утреннего зефира.
Какое-то время мы сидели молча, в задумчивой растерянности, ожидая, кто заговорит первым. Но разве только речь рождает понимание в душах исполненной взаимной приязни? Разве только звуки и их сочетания, срывающиеся с языка, сближают сердца и умы? Разве нет того, что выше созданного движением губ и дрожанием голосовых связок? Разве не в молчании перешептываются сердца и соединяются души, излучающие сияние?
Разве не безмолвие отделяет нас от нашего земного естества, и мы возносимся в пространство бесконечного духа, приближаясь к ангелам, и ощущаем, что тела наши — не лучше тесных тюрем, а мир — всего лишь место дальнего изгнания?
Сельма взглянула на меня так, что веки ее приоткрыли тайну души.
— Выйдем в сад,— с загадочным спокойствием сказала она,— и посидим среди деревьев. Скоро над вершинами гор появится луна.
— Не лучше ли подождать здесь, Сельма, пока не поднимется луна и не осветит сада? — спросил я.— Сейчас мрак скрывает деревья и цветы, и мы ничего не увидим.
— Темноте, что прячет от глаз деревья и травы, не дано скрыть любви,— ответила она.
Сельма произнесла эту фразу с каким-то странным выражением, отвернувшись к окну. Я думал в молчании о том, что услышал, пытаясь проникнуть в смысл сказанного, открыть для себя подлинное значение ее слов. И снова глаза Сельмы остановились на мне, как будто, раскаявшись, она хотела теперь силой своего волшебного взгляда заставить меня забыть о ее признании. Но чарам ее век не дано было совершить такого действа — слова Сельмы лишь глубже, еще более ясными и впечатляющими запали мне в грудь, где им суждено было остаться неотделимыми от сердца, волнующими чувства до конца моих дней.
Читать дальше