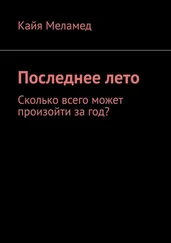— Я уже спрашивал его, когда копали, — сказал Завалишин, — почему же вы, дед Антось, партизанам этого не сообщили?
— А как он объяснил? — спросил Ильин.
— Говорит, сын покойный сам до партизан пошел, а мне наказал: никому ничего не сообщай, пока все наше войско обратно не придет. Когда все войско придет, тогда и откроешь.
— Долго ему ждать пришлось, — сказал Ильин. — Генерал-майор?
— Да. Одна петлица истлела, а на другой звездочки остались, только поржавели. А на ордене Красного Знамени даже эмаль не облупилась.
— И документы нашли? — спросил Ильин.
— В том-то и дело, что нашли, — сказал Завалишин. Сказал как-то непонятно, словно лучше было не находить этих документов. И, понизив голос, назвал фамилию генерала, которую по сорок первому помнили и Ильин и Синцов. Фамилия эта была тогда в одном, всем памятном приказе, где объявлялось, что человек этот, бросив свои войска, перешел к немцам. А устная молва добавляла, что не просто перешел, а уехал к ним на танке.
Оказывается, в слухах про танк была доля правды. А все остальное — вымысел кого-то бежавшего, спасшегося, может быть, бросившего других в беде; вымысел, превратившийся потом по неведению в приказ и сделавший презираемым имя погибшего человека.
— Умер, наверно, от раны в грудь. Ноги сожженные и в груди рана, — сказал Завалишин. — Так старик объясняет, видел все это, когда хоронил. Врачи разберутся. Из медсанбата и из госпиталя комиссию врачей прислали. Из корпуса начальник Евграфова приехал, Бережной явился, пять машин — целая свадьба!
— А где Евграфов? — спросил Ильин.
— Поехал сопровождать, — хмуро сказал Завалишин. — Погрузили все в машину и старика пригласили с собой. Думал, и меня возьмут, но миновала чаша сия. Обошлись Евграфовым.
— А чего ты так, — подняв глаза на Завалишина, спросил Ильин, — как будто что-то плохое открылось. Я, например, считаю, что тут ничего плохого, кроме хорошего. Имели про него сведения, что к немцам перешел, а оказывается — убитый в бою. Все честь по чести.
— Все равно, — сказал Завалишин, — только не знаю, что теперь с тем приказом будет. Возможно, не захотят его пересматривать, возвращаться, не допускаешь такой мысли?
Такой мысли не хотелось допускать ни Ильину, ни Синцову, но они оба, услышав этот вопрос, молчали, потому что ответить, что не допускают, не могли.
— Наша роль в этом деле закончена, — сказал Завалишин. — И лично я в разговоры — кто, что, какие документы и на чье имя нашли — ни с кем вступать не намерен. Только вам двоим сказал. Нашли и нашли, сдали и сдали, а дальше — не моего ума дело.
— Странно это от тебя слышать. Обычно, про что ни заговори, считаешь, что твоего ума дело.
— Странно или не странно, а вот так. Обычно — одно, а в данном случае — другое.
Наступило долгое молчание.
— А я бы, моя воля, приказ в этой его части, даже и не думая, отменил, — сказал Ильин. — Кому от этого плохо было бы?
Завалишин ничего не ответил, а Синцов подумал, что Ильин прав. Так оно и должно быть, как он сказал. И вдруг вспомнил Серпилина тогда, в сорок первом, при прорыве из окружения, когда его, тяжело раненного, все-таки вынесли из боя солдаты. И он лежал на шинели с ромбами на петлицах, одним поколупанным, а другим вырезанным из околыша фуражки, и с орденом Красного Знамени, как у этого генерала, которого нашли сегодня… Почему одно на войне выходит, а другое не получается, хотя люди каждый раз почти одинаково стараются, чтобы все получилось? Загадок на войне много, о некоторых даже представления не имеем, как с этим генералом, тело которого откопали. Такие загадки, как мины замедленного действия, закопаны глубоко, и неизвестно, когда обнаружат себя…
«И все ли верно потом разгадают, тоже вопрос», — подумал Синцов, незаметно для себя перейдя от мыслей о настоящем к мысли о будущем. В этом будущем занимали свое место и люди, которых уже не было. Но хотя их уже не было, что-то сохранившееся от них переходило в будущее. Какая-то часть их прижизненной силы и нравственного значения, оказывается, не умерла вместе с ними, а продолжала существовать и влияла сейчас на мысли Синцова о его собственном будущем и о будущем вообще, о том, что после войны все должно быть хорошо и справедливо. И, наоборот, что все смущавшее его душу в начале войны, что всего этого после войны не должно быть и не будет.
Была твердая вера в это. И частью этой веры в будущее была неумершая вера в умершего человека — в Серпилина.
Все трое по-прежнему молчали. Ильин налил себе еще полкружки чаю.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу