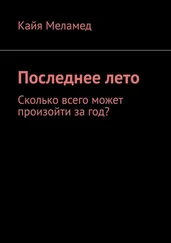— Все это я изложил в заключении. Как раз закончил, — сказал хирург.
— На черта вы годитесь! — горько сказал Захаров. — Говорят про вас, что мертвых оживляете, а тут через двадцать минут вам на стол положили — и ничего не смогли сделать!
— Товарищ генерал, — то ли не узнав Захарова, то ли не придавая значения, как и к кому обращаться, все тем же усталым голосом сказал врач,
— главный хирург армии приедет, свои выводы вам доложит. Но через мои руки за войну не меньше людей прошло, чем через его. Кого могли оживить — оживляли, а из мертвого живого не сделаешь, как бы ни хотел. Неужели не сделали бы всего, что могли? Неужели вы сами этого не понимаете? Что ж нам, вид делать, что оживляем, раствор вводить, массировать мертвого? Для чего, для какого доклада, кому и зачем?
Сказал так убежденно хриповатый этот, невидный, немолодой, усталый медик в белой докторской шапочке и забрызганном мелкими каплями крови халате, что Захаров так ничего и не возразил ему. Понял, что тот прав. Для врача есть человек, которого можно спасти, а есть, которого нельзя. Есть живой человек, а есть мертвый — и ничего с этим не поделаешь.
— Ранение показать вам? — спросил хирург, глядя на молчавшего Захарова.
— Покажите.
— Сейчас… Климова, — повернулся хирург к сестре, — давайте на стол, готовьте к операции того сапера с оторванной стопой. Он из шока вышел?
— Вышел, стонет.
— Готовьте.
И только после этого пошел с Захаровым к накрытому простыней столу.
Открыв простыню и показав Захарову, где вошел и где вышел осколок, убивший Серпилина, хирург хотел снова накрыть тело простыней, но, когда он уже натянул простыню до плеч, Захаров задержал его движением руки. Тот понял и отпустил простыню.
Теперь Серпилин лежал на операционном столе, как лежат на койке больные, в беспамятстве, в жару, накрытые только простынею. Одно плечо было совсем накрыто, а другое, голое, немного высовывалось из-под простыни, как живое у живого, небрежно укрывшегося человека. Лицо Серпилина было не закинуто назад, как чаще всего бывает у мертвых или, вернее, чаще всего кажется. А, наоборот, было даже чуть наклонено вперед и при этом повернуто в ту сторону, с какой стоял Захаров. Отчего так? Кто его знает! Так вынесли из машины, так положили на стол или так повернули голову, когда осматривали уже мертвого…
В ожидании главного хирурга с телом Серпилина еще не стали делать всего того, что принято делать, чтобы мертвое тело потом хорошо выглядело в гробу. Не подвязывали подбородка и не накрывали ничем тяжелым веки. Поэтому он лежал как живой, немного повернув в сторону лицо, словно хотел прислушаться к тому, что ему мог сказать Захаров. Он часто так поворачивал голову при разговоре. Только сейчас не сидел и не стоял, а лежал, повернув ее, и смотрел обоими глазами наверх, в угол палатки, куда-то мимо Захарова, далеко отсюда. Лицо было еще живое, а глаза уже мертвые, уже не видящие или, наоборот, видящие то, чего Захаров не видел и не мог увидеть.
Захаров неподвижно простоял несколько минут над этой живой головой, с мертвыми глазами. Думая в эти минуты не о том, что вышло и почему вышло, а привыкая к чувству, что этого человека больше нет и не будет.
От этого чувства, к которому Захаров старался привыкнуть, у него выступили слезы на глазах, и он, наверное бы, расплакался, если бы его не отвлек шепот за спиной. Голос хирурга, с которым они вместе подошли к телу Серпилина, и чей-то другой.
— Николай Иванович, может, я его прооперирую, — сказал этот, другой голос.
— Нет, я сам, — сказал голос хирурга.
— Давайте лучше я.
— Нет, я сам.
Захаров повернулся и понял, что они говорят о той операции, которую нужно делать раненому, уже лежащему на соседнем столе. Он посмотрел на хирурга и кивнул — не то одобряя, что тот именно так делает, как надо, не то отпуская, — чтобы шел, оперировал. Потом еще раз посмотрел на повернутое к нему лицо Серпилина и увидел Синцова, о котором знал, что он стоит с той стороны, по не видел его все эти минуты. А теперь увидел и сделал ему жест рукой, означающий: «Все. Выйдем отсюда!»
Они вышли из палатки, и последнее, что, уходя, услышал там, за спиной, Захаров, был голос хирурга. Не тот, усталый, которым он говорил про Серпилина, а другой, которым он сказал кому-то: «Перчатки!» Другой, повелительный голос, относившийся уже к другому делу, которое ему надо было делать.
— Вот так, Синцов, — выйдя и остановившись, сказал Захаров. Сказал так, словно надо было поставить еще какую-то точку на всем этом, как будто эта точка не поставлена самой смертью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу