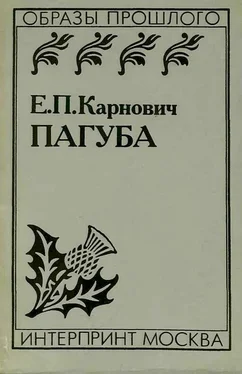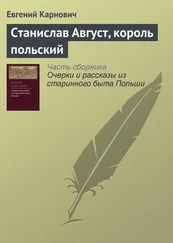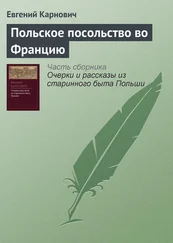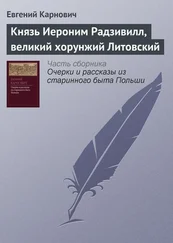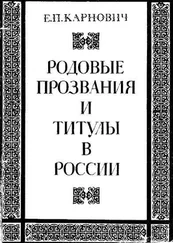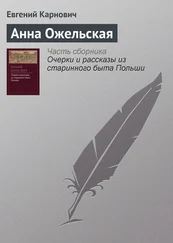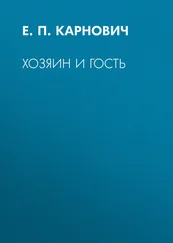Бергер же предстает в романе как человек, чуждый по существу какой-либо национальности. Он губит старого приятеля своего отца майора Шнопкопфа, доносит на пастора Грофта, губит семейство Лопухиных (Наталья Федоровна была немкой и сохраняла лютеранскую веру), губит молоденькую Софью Лилиенфельд. Он по-подлому рассуждает, что ему как немцу выгодно было бы «воспользоваться раздражением русских против его единоплеменников» и тем самым заслужить благосклонность правительства. Начисто лишенный чувства национального достоинства, Бергер передает свой донос на пастора Грофта старцу Варсонофию, лютому врагу иноземцев («нечестивых лютеров»), призывающему изгнать их из России, а «божницы их предать поруганию».
«Лопухинское дело» относилось к политическим процессам по «государеву слову и делу». К ним причисляли действия и умыслы против царя, правительства, оскорбления царского имени и титула, измену, бунт и другие преступления.
Приготовления к арестам и розыску по этому делу приобрели поистине грандиозные размеры. 21 июня 1743 г. в Петербурге появились военные отряды, улицы опустели, столица замерла. Жители в страхе думали, что возвращаются старые (бироновские) времена, когда по улицам в сопровождении конвойных шагали «языки», по указанию которых хватали «намеченных». Однако главную задачу следствие видело в том, чтобы отыскать связи между заранее признанными виновными Лопухиными и братьями Бестужевыми-Рюмиными. Лестоку, ставшему «душой» следствия, нужны были люди, готовые оговорить его соперника. После первых допросов и очных ставок в Тайной канцелярии круг обвиняемых расширился. Елизавета читала «экстракты» из допросов и давала распоряжения следователям. Лопухиных и Бестужеву заключили в Петропавловскую крепость, откуда путь обычно вел к месту казни на площади или в самую гибельную сибирскую ссылку. Затем приступили к истязаниям: мужчин поднимали на дыбу, женщин — на виску. Несмотря на пытки, Анна Гавриловна мужа своего не оговорила. Наталья же Федоровна упорно выгораживала Степана Васильевича. Выбитые истязаниями показания были шатки и противоречивы. На полях доклада следственной комиссии о ходе дела Елизавета начертала: «А что они запирались и в том верить нельзя, понеже, может быть, они в той надежде были, что только спросят, а ничего не сделают, то для того и не хотели признаваться».
Чудовищный по своей жестокости приговор она смягчила, ибо верна была своему обету, данному накануне переворота: никого не казнить (а через год, в 1744 г., императрица своим указом отменила смертную казнь в России). Но еще до суда «кроткая» (как ее называли придворные историографы) Елизавета к докладу комиссии приписала о «заговорщиках»: «…жалеть не для чего… лучше… век их не слыхать…».
Наталья Федоровна Лопухина во время варварского наказания сопротивлялась палачам, ее избили до полусмерти и вырезали у нее большую часть языка…
С. М. Соловьев писал о «Лопухинском деле»: «Люди, дурно отзывавшиеся о поведении императрицы, жалевшие о падшем правительстве, желавшие его восстановления и питавшие надежды на это восстановление, были наказаны».
Замечательный историк князь М. М. Щербатов полагал, что в России «писаные законы» уступают «власти государевой и силе вельмож». Корень зла он видел в отсутствии основополагающего закона о престолонаследии, что «подвергает государство к смятениям», «возбуждает честолюбие в сильных и вражды в царском доме, всегда грозящие междуусобною бранию и разорением государства». Цари же окружают себя вельможами, которые «двор считают своим отечеством» и сильны лишь «в дворцовых происках». Жизнью и честью русских подданных играет «деспотичество». «А под сими-то правителями, — писал Щербатов, — российской гражданин должен влачить тяжесть жизни своей, не имея ни твердых законов, ни знающих правителей… он должен ежедневно страшиться и вельмож; жизнь, честь, имение его не более в безопасности, как слабая лодка без руля среди сурово волнующегося моря».
Именно об этом роман «Пагуба» забытого русского историка-романиста Е. П. Карновича, стремившегося воссоздать достоверный облик елизаветинской эпохи.
В. Смолкин
Мыза — хутор, усадьба.
Палаш — прямая, длинная и широкая сабля.
Кнастер — сорт табака.
Карл XII (1682–1718) — король Швеции с 1697 г., полководец.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу