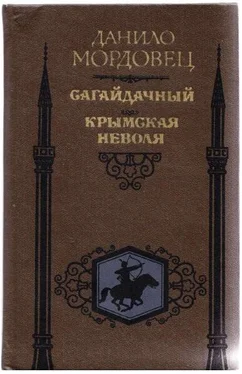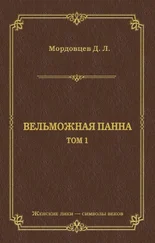— Чертово море!
— Эге! Если б все это была горилка, а не вода, то-то б! — подтрунивал над ним усатый Карпо.
И не одних новичков поразил вид моря. Необъятная масса воды и ее невиданный цвет, невозможность на чем-либо успокоить взор, который, сколько ни глядел вдаль, все, казалось, более и более утопал в этой бесконечности, одномерные покачивания чаек, ужасающее безлюдье этой водяной мертвой пустыни, — все наводило на душу тоску, одурь, физическую тошноту. Чувствовалась какая-то страшная беспомощность, оторванность от всего мира. Это было даже не между небом и землей, а между небом и бездной, которой нет предела, которая поглотила самую землю и которая нема и глуха, как могила, как смерть.
Хоть бы что-нибудь показалось живое на этом мертвом море! Хоть бы татары!
Чайки шли открытым морем, по-видимому, на полдень. Что же там — хотелось спросить — еще дальше, еще глубже, за этой бесконечной синевой? Там, казалось, еще страшнее.
Только влево, далеко-далеко, словно у конца моря, тянулась длинная туманная полоска и тоже таяла вдали, в этом самом безбрежном море, таяла, как дымок, как облачко, как туманное дыхание куда-то исчезнувшей земли.
— А то что такое? — показывали молодые казаки.
— То Крым.
И эта туманная полоска за синею далью, это таявшее облачко — это Крым! Не может быть! Это там, где кончается и небо, и море... Да это, должно быть, конец света...
А как печет солнце!.. Неужели это то же солнце, что и в Украине, в Киеве, в Остроге, в Прилуках, в Пирятине?.. И на море пала от него бесконечная полоса, которая искрится и дрожит на этой страшной, словно дышащей воде и которой тоже нет ни конца, ни краю...
Ближе к корме большой чайки, атаманской, на размалеванном возвышении, называемом чердаком, сидит, поджавши по-турецки ноги, седоусый Небаба, лениво покуривает свою люльку и куняет — дремлет. Люлька его постоянно гаснет, что заставляет его ворчать, вспоминать сто копанок чертей, вырубать снова огонь, оглядывать из-под седых бровей море, и снова лениво сосать люльку, и снова кунять.
Длинноусый Карпо, расположившись на дне чайки, весь углубился в приведение в достодолжный вид шкуры убитого им тура, шкуры, с которою он носился, как курица с первым яйцом; тщательно обрезал ее, выполоскал в соленой морской воде, отделил от нее великолепные рога и отрезал хвост, которые он предназначал приподнести в дар войску, как войсковые клейноды. Попеременно он брал в руки то рога, то хвост и любовался этими сокровищами. Для него, по-видимому, не существовало море — ни его внушающая красота, ни его томительная безбрежность: он уже бывал на нем, нечего смотреть — не то, что в степи или в камышах, где всегда есть с кем померяться ловкостью. А море что! Наплевать! Одна негодная вода, которую и пить нельзя.
Олексий Попович тоже расположился недалеко от Карпа и от нечего делать, навалившись грудью на борт чайки, методически поплевывал в противное море, на котором запрещено пить горилку, и вспоминал свой родной Пирятин, где он шибко гульнул перед отъездом в Сечь: пьяный у отца и матери прощенья не взял, беспечно на улице на коне гулял, малых детей и старых вдов стременем в груди толкал, мимо церкви проезжал — шапки не снимал и креста на себя не клал...
— Смотрите, смотрите, дядьку, что вон оно такое? — испуганно спросил друкарь, показывая на море.
— Что такое? — лениво, не поднимая головы, спросил Карпо.
— Да вон — из моря выныряет...
— Э! Да то кони.
— Какие, дядьку, кони?
— Да морские ж кони, не наши.
Действительно, недалеко от чаек из моря выныряли на поверхность какие-то черные чудовища, плескали чем-то — не то хвостом, не то руками — и снова скрывались под водою. То были стада дельфинов, взыгрывавших на солнце и как-то странно кувыркавшихся среди морской зыби.
— А коли б нам деры не задало, — проворчал Карпо, расчесывая своим гребнем хвост тура.
— Какой деры, дядьку? — тревожно спросил Грицко.
— Коли б море не заиграло...
— А что такое?
— Хуртовина будет — буря.
— С чего ж ей быть, дядьку?
— А с того, небого, что вон те коники выигрывают.
Хотя никаких признаков бури, по-видимому, не замечалось, но слова опытного запорожца холодом прошли по сердцу молодых казаков. Они слышали от старых казаков об этих морских бурях, они слышали даже думу, как два брата-казака потопали в море и прощались заглазно с отцом и матерью — просили их помолиться за погибающих, вынести их со дна моря, и как потопал с ними третий казак — «чужий чужениця», у которого не было ни отца, ни матери и за которого некому было даже помолиться... Дума говорила, что они потопали в чужом море за свои грехи, за неуважение к старшим, за свою беспутную жизнь.
Читать дальше