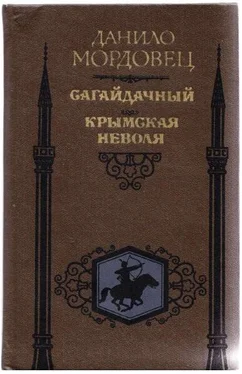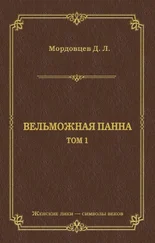Пилип перестал работать, оперся на заступ и следил глазами за галерой: видны были даже лица невольников. Вдруг на галере раздалось тихое пение, словно бы кто плакал... Сердце запорожца так и заныло тоскою... Тихий голос пел:
Що на Чорному Mopi
Та на білому камені,
Там стояла темниця кам'яная.
Що у тій-то темниці
Пробувало сімсот козаків,
Бідних невольників...
Пилипу знакома была эта невольницкая дума. Он слыхал ее и в детстве, на площадях родного Каменца, и на базарах, и уже в Запорожье потом. Дума эта всегда вызывала слезы у слушателей. И Пилип всегда слушал ее с болью в сердце и всегда, бывало, думал: «А каково-то им самим, этим невольникам, о которых поет дума? Что они, бедные, чувствуют?»... И вдруг он слышит эту думу теперь, когда сам стал невольником, и хотя томится не тридцать лет, как те, что в думе, и не лишен видеть ни «світу божого», ни «сонця праведного», однако все же в неволе...
Он стоял, как очарованный, и слушал, как в темницу пришла «дiвка бранка, Маруся попівна Богуславка», как она спросила казаков-невольников, чтоб они угадали, какой теперь в нашей христианской земле день; как невольники отвечали — почем им знать, какой теперь день у них на Украине, когда они уж тридцать лет в неволе маются и «божого світу», и «сонця праведного в глаза не видають»; как им на это Маруся Богуславка отвечала, что теперь на родной их стороне, на Украине, великодная суббота и завтра святой праздник — роковой день великдень; как невольники, услыхав это, белым лицом до сырой земли припадали, Марусю Богуславку кляли-проклинали, что она им о таком великом празднике в тяжкой неволе напоминала; как потом Маруся Богуславка, взяв тихонько у своего и невольницкого пана турецкого ключи от темницы, всех невольников на волю выпустила и просила их, чтоб они, когда прибудут домой на Украину, в города христианские, зашли к ее отцу-матери и сказали, чтоб они не продавали ни скота своего, ни имения, и ее, Марусю Богуславку, из неволи не выкупали:
Бо вже я потурчилась, побусурманилась,
Для розкоші турецької,
Для лакомства нещасного...
Пилип, слушая пение, стоял между грядками, расположенными под самым балконом гарема. Балкон был весь увит ползучими растениями и дорогими цветами, так что из сада ничего не было видно, что делалось на балконе. Но при последних словах думы он услыхал шорох на балконе. Прислушиваясь далее, он ясно расслышал, что там кто-то тихо, но горько рыдает, так и захлебывается слезами, так и задыхается... Услыхав это рыданье, запорожец задрожал всем телом: казалось, это голос его матери: это мать рыдает над его горькой невольницкой долей и над своею собственной недолей...
А с галеры, между тем, доносилось:
Ой визволи, боже,
Нас вcix, бідних невольників,
3 тяжкої неволі
3 вiри бусурменської,
На яснi зopi,
На тихі води,
У край веселий,
У мир хрещений!
Вислухай, боже,
О просьбах щирих
У нещасних молитвах
Нас, бідних невольників!
Голос замер, а запорожец все стоял и слушал, как потерянный. Слезы текли по его щекам. Вдруг что-то как бы упало на балкон и застонало...
— О-о! Я не хочу — я не хочу бути проклятою Марусею Богуславкою! О господи! — раздался оттуда болезненный крик, и потом все смолкло...
Запорожец догадался, кто это рыдал так горько на балконе и чей это был голос.
— Она, она, голубушка, — тихо бормотал, со слезами на глазах, покачивая головою, старый москаль-невольник, который подошел к запорожцу.
— Она, ластушка...
— Хто вона?
— Девынька моя, сироточка-черкашенка...
Это было в 1683 году, когда турки осаждали Вену, а Ян Собеский, король польский, вместе с польскими и казацкими войсками шел на выручку погибавшего цесаря. [39]
Крымские войска, по повелению султана, с раннею весною также вышли с ханом в подмогу турецким силам, обложившим цесаря и его столицу. Ушел на войну и Облай-Кадык-паша, оставив свой дом и гарем на попечение матери. Уже по возвращении из похода он намеревался взять в жены молоденькую украинку, золотокосую подоляночку.
В отсутствии паши и рабам-туземцам, и невольникам стало несколько легче: меньше работалось и вольнее дышалось. И в саду как будто стало свободнее. Хотя старый садовник-татарин и оставался по-прежнему суровым и требовательным, по-прежнему пускал иногда в ход червонную таволгу, которая гуляла по спинам невольников, однако, как он был глух, то невольники, работая от зари до зари, могли хоть иногда промурлыкать под нос родную песенку, побеседовать и вспомнить про свою сторону.
Читать дальше