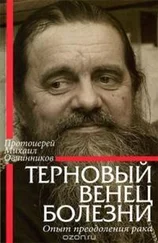— Юленька, говори дальше. — Он взял ее руки в свои теплые ладони.
— Мой дед, Иван Бармин, был купцом, да и отец не чурался купеческих дел, — сказала она, подняв на него глаза, в которых выступили слезы. — Вот мы и есть те мироеды и кровопийцы. Теперь что ты скажешь?
— Юленька, какое это имеет значение? Ведь я тебя люблю!
— Погоди, Костя, это еще не все, — сказала она дрожащим от волнения голосом. — Мой старший брат Петр был есаулом в казачьих частях атамана Семенова. Правда, потом перешел со своей сотней к красным, но все равно получил десять лет, теперь отбывает срок в Сибири. Подумай, Костя, нужна ли такая жена красному командиру? Ведь наша семья… — Она не договорила, прижала его руку к своей щеке.
Рокоссовский ощутил на ней капли слез.
— Ты что, милая, вот уж не думал, Юленька…
— А знаешь, каким именем меня окрестили? — Она выкладывала все свои сомнения.
— Каким?
— Июлиания, — ответила тихо она. — В 20-м году я заменила на «Юлию».
— Очень хорошо. Ты не догадываешься, как я буду тебя теперь называть?
— Как?
— Люлю, отныне ты моя Люлю.
— Ой, какой ты смешной!
Вскоре они вернулись в город и долго бродили возле дома Барминых, обговаривая, как объявить родителям о их решении.
Назавтра, в воскресенье, Рокоссовский заехал за своей будущей женой на легковой машине, и они позволили себе небольшое путешествие — посетили музей декабристов в городе Селенгинске.
Ровно в полдень они подошли к месту, где были похоронены Николай Бестужев, жена Михаила Бестужева, его дочь и декабрист Торсон с матерью, приехавшей к нему за несколько дней до смерти.
Ансамбль памятников из черного мрамора, обнесенный якорной цепью, возвышался над окружающей местностью, словно маяк на самом высоком берегу океана.
Глубоко внизу, под скалистым обрывом, кипела и до рези в глазах искрилась шустрая река Селенга. Через сотни километров ее синевато-серые воды, дробя на множество мелких речушек, принимал в свои широкие объятия седой Байкал.
Чуть ближе, по зеленому буераку, раскинулись руины домов старого казачьего селения. Низкорослые, кряжистые деревья, переплетенные хмелем и плющом, держали в осаде потемневшую от времени церковь, намертво приросшую к земле наперекор стихии.
Глухой плеск реки, ленивая игра солнечных лучей, восторженный крик каких-то серых птиц, паривших над селением, сухой и пахучий, как дыхание ребенка, теплый воздух, сизая дымка над зелеными скатами гор — все это наполняло душу Рокоссовского любовью к жизни, к неувядающей красоте природы. Он стоял возле памятника декабристам и не в силах был сдвинуться с места.
Он посмотрел на свою Люлю. В легкой светлой шляпке, защищавшей голову от палящего солнца, в розово-белом, как утренний туман над его родной Вислой, костюме, раскрасневшаяся от волнения, она нежно прижимала к груди охапку полевых цветов, собранных ее Костей, и мило-мило улыбалась. Она казалась ему самой прелестной женщиной на свете, олицетворением красоты этой природы, короткой и знойной забайкальской весны.
Через две недели состоялась скромная свадьба. В легком подпитии, кряжистый крепкий мужчина лет 60-ти, с роскошной курчавой, седой бородой, отец Юлии, Петр Иванович, заманив зятя в отдельную комнату, повел с ним откровенный разговор.
— Неужели тебе не надоела, сынок, военная служба? — спросил он, хитро заглядывая в глаза. — Жили бы у нас, дом большой, хватило бы места всем. Я вижу, ты мужик крепкий, сообразительный, глядишь, жили бы не хуже других.
— Я думал об этом, но тяга к военной службе — крепче моей воли. Я пришел к выводу, что военная служба не только моя профессия, но и моя судьба.
— Как ты думаешь, может, все-таки пройдет поруха и мы опять заживем как люди? — Прокуренными пальцами старик достал портсигар, угостил зятя папиросой и сам закурил. — Или будем продолжать обирать тех, кто нажил добро своим горбом?
— Заживем, Петр Иванович, обязательно заживем. Ради чего надо было заваривать всю эту кашу? Только ради хорошей жизни всех людей.
— Хотя у нас и окраина России, но жили мы дай бог каждому, — сказал отец, прикуривая погасшую папиросу. — Кого только не увидишь, бывало, на улицах нашего города? Купцов — да не из одних сибирских городов — от Нижнего, из Казани, из самой Москвы наведывались гости. А сколько в этой сутолоке было татар, бухарцев, калмыков, тунгусов? Не счесть. Скотоводы, купцы, охотники…
Рокоссовский заметил, что старик тоскует по торговому делу и понимает в нем толк.
Читать дальше