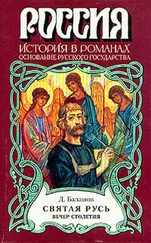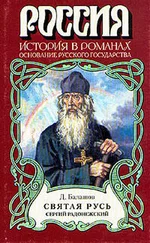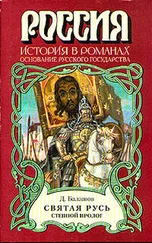Леонтий поднялся по черному ходу в свою келью. Посидел на лавке, озирая чужие уже, привычно-знакомые стены, безразлично покивал засунувшему нос в келью придвернику, сообщившему, что "сам" гневает и зовет к себе секретаря, дабы явил ему грамоты владычные. Покивал и, распростертою дланью, показал: "Выйди!" И тот, понявши, исчез.
Леонтий примерился к тяжелой иконе Спаса, приподнял ее и вновь поставил на по лицу. Начал потом снимать книги, деловито просматривал, иные возвращал на место свое, другие горкою складывал на столетию. Набралось много. Он посидел, подумал. Вернул на полицу тяжелый "Октоих", поколебавшись, туда же поставил своего "Амартола", памятуя, что у Сергия в обители "Амартол", кажется, есть. Маленькую, в ладонь, греческую рукопись "Омировых деяний" сразу засунул в торбу. Туда же последовали "Ареопагит" и святыня, которую никак нельзя было оставить Митяю: собственноручный, владыкою переведенный с греческого, еще в Цареграде, и им же самим переписанный текст "Четвероевангелия", по счастию оказавшийся нынче в келье Леонтия. Он в задумчивости разглядывал иные книги, одни отлагая, иные пряча к тем, что уже были в дорожной торбе: "Лавсаик", Михаил Пселл, послания Григория Паламы, Синаит — никаких трудов исихастов Митяю оставлять не следовало! С сожалением, взвесив на руке и понявши, что уже будет не вподъем, отложил он Студитский устав и лицевую Псалтырь, расписанную Никитой Рубелем. Скупо улыбнувшись, припомнил, как Никитин малый отрок, высовывая язык, трудится рядом с отцом, выводя на кусочке александрийской бумаги диковинный цветок с человеческой головой, а Никита, поглядывая, ерошит светлые волосенки на голове отрока, прошая добрым голосом: "Цегой-то у тя тут сотворено?" Покачал головою, взвесил еще раз Псалтырь на руке и с сожалением поставил на полицу…
О Митяе он не думал вовсе и даже удивил несколько, когда в дверь просунулся сердито надувшийся княжой ратник, за спиною коего маячила рожа прежнего придверника, нарочито грубо потребовав, чтобы "секлетарь" тотчас шел к батьке Михаилу. Поперхнулся страж, хотел было произнести "владыке", да, встретив прямой, строгий, немигающий взгляд Леонтия, предпочел избрать такую окатистую фигуру. "Батька" — оно и поп, и протопоп, и игумен, и пискун, и сам владыко — как сам хошь, так и понимай!
Леонтий сложил книги стопкою. Молча, оттерев плечом придверника, притворил дверь и запер ее на ключ, вышел вослед стражу, миновал переходы, двигаясь почти как во сне, и токмо у знакомой двери покойного владыки придержал шаг, дабы справиться с собою.
Митяй встретил его стоя, багрово-красный от гнева, и тотчас начал кричать. Леонтий смотрел прямым, ничего не выражающим взором в это яростное, в самом деле "чревное" плотяное лицо ("харю" — поправил сам себя), почти не слыша слов громкой Митяевой речи. Уразумевши, что от него требуют ключи (подумалось: вскроют и без ключей, коли не выдам), снял с пояса связку, швырнул на кресло и, не слыша больше ничего, повернул к выходу.
Митяй что-то орал ему вслед, еще чего-то требовал, угрожал изгнанием строптивца, в ответ на что Леонтий даже не расхмылил. Он на самом деле не слышал уже ничего, вернее, слышал, но не воспринимал.
Воротясь к себе — тень придверника крысою метнулась прочь от запертой двери, — он тщательно, но уже быстро, без дум, отобрал последние книги. То, что оставлял, нахмурясь, задвинул назад в поставец. Снял малый образ Богоматери Одигитрии. Отрезал ломоть хлеба и отпил квасу, присевши на краешек скамьи. Хлеб сунул туда же, в торбу. Вздел овчинный кожух и туго перепоясался. Поднял тяжелую торбу на плечи. В последний миг воротился, снял-таки серебряную византийскую лампаду, вылил масло, завернул лампаду в тряпицу и сунул ее за пазуху. Все! Перекрестил жило, в коем уже не появится никогда, натянул шерстяной монашеский куколь на голову, забрал простой можжевеловый дорожный посох и вышел, оставивши ключ в дверях. Дабы не встречаться с придверниками и стражею, прошел черною лестницей, выводящей на зады, на хозяйственный двор, отворил и запер за собою малую дверцу, о которой мало кто знал и, уже будучи на воле, среди поленниц заготовленных к зиме дров, оглянувшись, кинул последнюю связку ключей в отверстое малое оконце книжарни. Отыщут! И, уже более не оглядываясь, миновавши в воротах растерянную стражу, зашагал вон из Москвы.
Путь его лежал в обитель Сергия Радонежского. И первый радостный удар ледяного весеннего ветра, уже за воротами Москвы, выгладил с лица Леонтия и смешал со снегом скупые слезы последнего расставанья с усопшим владыкой.
Читать дальше