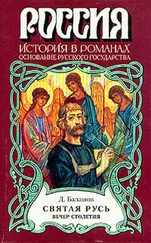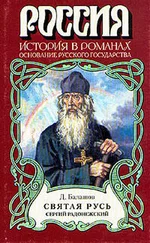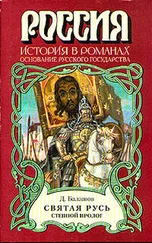Феофан глядел на отдаляющий, воющий берег, и слезы подступали к глазам. От сердца отрывался кусок жизни, кусок судьбы, уходили брошенные друзья и знакомцы. И вновь, как когда-то, подступало к нему, что здесь, на Руси, все было крупнее, чем там, в умирающем Константинополе, и гроза, и ужас тоже были страшнее и больше и требовали большего напряжения сил. И он знал теперь, как и чем это выразить, и, плача, прощаясь с обреченным городом, ведал вторым, глубинным смыслом художника, как и что напишет он, когда вновь встанут перед ним внутренние стены храмов этой земли, упрямо встающей вновь и вновь из пепла пожаров и гибели поражений, упрямо возникающей заново и тянущейся вширь и ввысь, в небеса, к своему, непохожему на иных, русскому Богу.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Споры западников и славянофилов, возникшие, по сути, где-то с конца ХVIII столетия, имели достаточно древнюю предысторию. Во всяком случае, „западничество“ — безусловное неприятие всяческого „Востока“ и настойчивое желание в политике Руси опираться всегда на помощь западного, католического мира — существовало уже в Киевской Руси. „Западниками“ были многие киевские князья, „западником“ оказался Михаил Черниговский, просивший на Лионском соборе помощи у папы римского против татар, за что и заплатил головою в ставке Батыя. И Даниле Романычу Галицкому не помог папа, как и королевское звание не помогло. Более того, и княжество Данилово, Галицко-Волынская Русь, очень вскоре и на долгие века оказалось захваченным, разодранным на части западными соседями: Венгрией, Литвою и Польшей, захваченным, разоренным, обращенным в предмостное укрепление Европы противу кочевников, утерявшим великую некогда культуру, зодчество, книжность, утерявшим свое высшее сословие, получив взамен венгерских да польских феодалов…
И все то была цена за неразумие прежних великих князей и Галицкого боярства, восхищенных и увлеченных городскою культурою Запада, не ведая того, что самим им не стать никогда этим самым „Западом“, разве — холопами на барском дворе, и что должно всякому быть самим собою и даже союзников искать себе в той среде и на том пути, по которому вела их историческая судьба, слагавшаяся за много веков до них в постоянных спорах, розмирьях и дружестве со степными народами…
Увы! То, что прояснело на Москве, далеко не казалось таким несомненным в далеком Киеве! А пламенный нижегородский проповедник, нынешний епископ Нижегородский, Городецкий и Суздальский Дионисий, когда-то явился как раз из Киева. Явился сюда, в дикое Залесье, полный воспоминаний о величии уничтоженной монголами державы, полный мечтою о расплате и новом взлете страны… И он ли не ратовал, не призывал, не торопил всячески Русь к борьбе с вековым врагом? Ибо для него Орда была врагом, и только. Летопись, исправленная по его приказу иноком Лаврентием, только-только — едва просохли чернила на статьях, описывающих бедственную участь разгромленной монголами страны, — только-только легла на аналой пред очами княжескими. Не по его ли призыву был уничтожен наглый посол ордынский, Сарай-ка? Не он ли стоял за всяким розмирьем с татарами и торопил, торопил, торопил… И сейчас, казалось уже, громом побед отметят свой путь восставшие к совокупной борьбе нижегородско-московские рати. Он благословлял это войско, выходившее в долгожданный поход, и вот теперь…
За стенами горницы творилось суматошное кишение иноков, послушников, челяди, собиравших иконы, книги, многоразличное монастырское и епископское добро, дабы, погрузив на лодьи, отплывать в Городец, а он сидел и думал, и временами скупая слеза, осребрив жесткий лик нижегородского владыки, сбегала по щеке и пряталась в седой, тоже пониклой и словно бы пожухлой бороде.
Почти без стука ввалились в дверь двое иноков, Фома и Никодим, посланных за изографом Феофаном. Монахи дышали тяжко, в глазах читались растерянность, виноватость и страх.
— Не нашли! — вымолвил старший, Фома, разведя руками.
— Ушел, должно! — почти обрадованно подхватил Никодим. — Прошали, бают: уплыл на новогородской лодье!
Монахи повесили головы, ожидая грозного епископского разноса, но Дионисий лишь молча указал рукой, и те, обрадованно, исчезли, прикрывши двери.
— Как же так, Господи! Как же так? — прошептал Дионисий, вперяя взор в тусклый лик Спаса киевского письма в углу разобранной и почти уже унесенной божницы. — Как же так, Господи, за что? За какие грехи?
Он не чаял грехов за собою, быть может только теперь догадывая о том, едином, который не отпускал его всю долгую и многотрудную жизнь — о грехе гордыни. Не было в нем, Дионисии, смирения, и всегда не хватало доброты. Ясно вдруг припомнились дикие глаза Сарайки, когда татарин с визгом натянул лук и выстрелил в него, Дионисия, и был тотчас разорван озверевшей толпой. И как он, Дионисий, стоял тогда с крестом в поднятой длани, осеняя жестокую резню. Неужели?..
Читать дальше