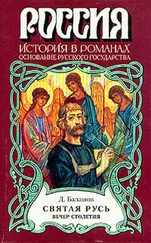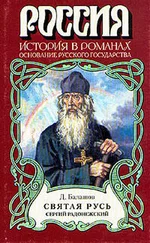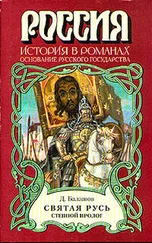Так, даром, дуром, без боя, почитай, были потеряны суздальская и нижегородская рати, погибли ярославцы и юрьевцы, и многих, многих бежавших добивали потом по лесам мордовские вой!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Васька опомнился, когда его с толпою раздетых, обезоруженных ратников загнали, словно скот, в жердевый загон, не давши ни пить, ни есть, и вокруг начали ездить, скаля зубы и взмахивая плетями, татарские сторожи. Тут только осознал, что это плен, и впереди трудная дорога в степь, и опять на невольничий рынок, и родина, настигшая его, найденная, вновь отдалила, ушла, истаяла, и — увидит ли он ее еще когда-то? И тогда вот склонился он почти до земли и заплакал, вздрагивая, бугрясь предплечьями связанных рук, мотая раскосмаченной головою и дергая пересохшим, воспаленным ртом. Заплакал, желая лишь одного в этот позорный миг — умереть! Но и смерти не было ему дано безжалостным роком…
Русичи — кто проклинал, кто кидался к огороже, получая увесистый удар плетью, кто тупо сидел, глядя перед собою в землю, — ставшие чужими друг другу в этот миг позора, они не искали своих, не думали еще ни о побеге, ни о плене, они лишь опоминались еще, лишь понимать начинали, что из недавних празднующих победителей стали скотом, полоном, последнею рванью на земле…
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Татарские мурзы меж тем, оставя сторожу вокруг полона и награбленного добра (видно, кто-то умный вел их на Русь, не Бегич ли?), устремили изгоном к Нижнему Новгороду. Побоище за Пьяной произошло второго августа, в полдень, а пятого татары уже были под городом. Престарелый князь Дмитрий Константиныч узнал о беде, уже когда ничего нельзя было содеять, ни собрать новой рати, ни даже защитить город. Оставалось — бежать.
Старый князь, тесть великого князя московского, еще вчера гордый и величественный в достоинстве своем, был сломлен. Он сидел на лавке в опустошаемом тереме своем, из которого прислуга стремглав выносила к вымолам казну и рухлядь, сидел и плакал.
Погибло множество бояр, еще вчера могучих и грозных подручников, погиб сын, как теперь яснело, любимый. Ни Семен, ни Василий Кирдяпа не лежали так к сердцу старого князя, как этот, младший. Погибло все, обрушилась гордая слава победителя татар, к которой призывал епископ Дионисий. И где он сам, грозный владыка Нижегородской земли? Поди, тоже торочит коней или снаряжает лодьи, дабы кинуться в бег, ибо и ему татары не простят прошлой пакости, ни призывов с амвона, ни убиения Сарайки с дружиною… Погибло все, и то, что суетятся слуги и кмети, холопы, таскают укладки, тяжелые скрыни и кули, — все это уже ни к чему…
Так, плачущего, его подняли и повели, почти потащили под руки к вымолам. Князь не противился. Длинные сухие ноги его заплетались, едва шли. Он почти не узнал потишевшую, захлопотанную супружницу свою, только руки ее, заботливо отершие платом слезы с княжого лица… И тогда, и тут только увидел он, уже со струга, от воды, все разом: и город, краше коего не было на земле, высящий на кручах волжского берега, — город, обреченный огню и разору! — и мятущуюся по берегу, воющую толпу, и то, как дюжие молодцы баграми и шестами отпихивают от бортов перегруженных паузков отчаянный, цепляющийся за борта, тонущий народ.
— Нельзя! Потонем вси! Мать!..
Город бежал, все, что могло плыть, было переполнено и стремилось, выбрасывая весла, туда, вверх по Волге, к спасительному Городцу…
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Феофан Грек узнал о погроме и бегстве поздно, когда уже содеять не можно было ничего: ни добраться до монастыря, к Дионисию, ни нанять коней. Сложив в сумы самое ценное — краски, кисти, краскотерку свою, старинную и любимую, несколько книг да слитков новогородского серебра, он устремил к берегу и тут бы и погиб, пропал ли в ополоумевшей толпе черни, но, к великому счастью и для него, и для русского художества, признал изографа торговый гость-новогородец и над головами толпы начал кричать, подзывая. Скоро двое дюжих молодших пробились к изографу, подхватили тяжелые сумы и повлекли его сквозь рев и гам, сквозь протянутые женочьи руки, что молили, цепляя за одежду, доволокли до пристани и уже по последней, вздрагивающей под ногами доске, отбиваясь от осатаневших горожан, взволокли на палубу, где и сунули мастера куда-то меж кулей и бочек, горою наваленных в перегруженную лодью, так что, когда отваливали от вымола, кренящаяся посудина едва не зачерпнула смертную чашу волжской влаги, ибо волны шли мало не вровень с бортами, и гребцы опасливо и дружно налегали на весла, о едином моля: как бы не качнуть судна невзначай!
Читать дальше