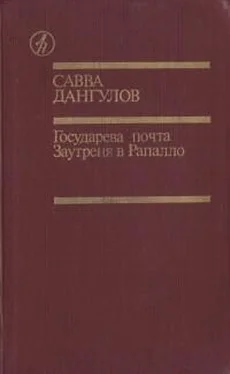Мумджу хорошо знал Россию — он закончил русскую гимназию в Батуми и лет пять возглавлял пресс–отдел турецкого посольства в Петербурге, — он говорил на хорошем русском, который годы, минувшие после его возвращения из северной русской столицы, не деформировали, мог объясняться по–грузински, он знал, что к Грузии имел отношение и Карахан, и не отказывал себе в удовольствии ввернуть в спою русскую речь точное грузинское слово.
Мумджу любил принимать Карахана в своем стамбульском имении, откровенно похваляясь не столько размерами имения, сколько его нынешним состоянием, это было имение, замечательное сельским колоритом. Стол обычно выносился на веранду, выходящую одним окном к морю, другим в сад и на бахчу, хорошо возделанную, экзотическую для большого города. Бахча была слабостью Мумджу, ему доставляло удовольствие показывать ее гостю, остановив его внимание на новых сортах арбузов, скороспелых марсель–ских, размером в два кулака, черно–полосатых, привезенных с российского юга, тонкокожих «алжирцев» весом в двенадцать и даже пятнадцать килограммов, семена которых имел здесь только Мумджу.
Поход на бахчу заканчивался тем, что на веранду, где был накрыт стол, доставлялся арбуз, на котором останавливал свой выбор гость. В огнедышащем турецком июле распадающиеся скибы арбуза, будто тронутые изморозью, поистине были даром небес… Они засиживались допоздна, Мумджу и Карахан, отдав время беседе. Ну, разумеется, Карахан был достаточно осведомлен, как близок Мумджу Ататюрку, а Мумджу знал, что его гость наслышан об этом, но имя президента упоминалось лишь в крайнем случае. Этот запрет был тем более действен, что русский был убежден, содержание беседы так или иначе станет известно президенту. Однако были имена, которые обозначались точно. Какие? Германского посла, например. Так случилось и в этот вечер, по–стамбульски безветренный и душный.
— Неужели есть турки, которым льстит эта теория о странах — избранницах судьбы? — спросил Карахан и взглянул на полоску газетной бумаги, еще не просохшей, с оттиском статьи хозяина. Испросив разрешение у собеседника, Мумджу и прежде, прервав беседу, мог углубиться в чтение гранок — у газеты был свой ритм, и его не мог нарушить даже Мумджу.
— Есть, наверно. И это не так странно, как может показаться, — произнес Мумджу, дочитывая оттиск и ставя в конце его иероглиф, по–своему нарядный, в котором спрессовалось имя хозяина — Невзят Мумджу. — В этой теории есть понимание турецкого характера, как он сложился исторически, — разговор еще не получил разбега и не завладел Мумджу, он мог, пожалуй, вычитать еще одну статью, а пока принялся разрезать арбуз, тяжелые скибы которого, не удерживаясь в крупных ладонях Мумджу, падали на блюдо. — Если завтра вы объявите вне закона всех веснушчатых, послезавтра они образуют свой профсоюз…
— Вы полагаете, что Турция и Германия… веснушчатые?
— Да, в той мере, в какой их объединило поражение, — произнес он отнюдь не так бесстрастно, как прежде. Солнце зашло, но арбуз хранил свои первозданные краски, казалось, они не потускнеют и в ночи.
— И желание назвать себя избранником провидения можно понять, не так ли, господин Мумджу?
— Если очень хочется…
— В том смысле, что в этом есть своя правда, господин Мумджу?
— Я сказал, если хочется…
Карахану показалось, что его разом покинули силы. «Даже Мумджу, даже Мумджу…» — сказал себе Лев Михайлович.
— Если вы сегодня скажете человеку, что он сверхчеловек, то завтра он не сочтет убийство за преступление, это же можно сказать и о народе…
— Вы полагаете, что это случилось с Турцией? — спросил Мумджу.
— На этот вопрос вы могли бы ответить и сами.
— Тогда я поставлю вопрос иначе: «И может случиться с Германией?»
— Другого пути нет — может! — произнес Карахан. Не иначе у Мумджу возникла потребность в паузе,
он подошел и закрыл окно веранды — можно подумать, что ему вдруг стало мешать море, чей гул усилился с приходом вечера.
— Не значит ли это, что на право творить суд обречены Германия и Турция? — в самом этом вопросе была необходимость паузы.
— Ни в коем случае, речь идет о бацилле чумы, которую можно внести в кожу даже того, кто сам был подвергнут истреблению…
Только после того, как мысль получила осязаемость слова, Карахан ощутил, как жестока правда, о которой пошла речь. Бесконечно долго длилось молчание, надо было иметь силы, чтобы его нарушить.
— Представьте, друг Мумджу, почему я должен убивать вас, а вы меня?.. — наконец произнес Карахан.
Читать дальше