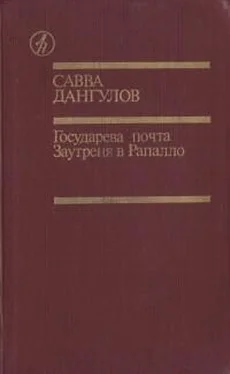— Опыт преодоления? Ну что ж, это немало, — произнес Чичерин, улыбаясь: ему была симпатична мысль молодого человека.
— Вначале падут границы, разделяющие страны, а потом языки, хотя первые охраняются, а вторые свободны, — произнес молодой человек со страстью, которая, если бы не его возраст, казалась бы в этот момент не очень понятной.
И вновь Георгий Васильевич задержал на человеке, сидящем рядом, внимательный взгляд. Сколько раз ловил он себя на мысли: «Не пренебрегай тем, что услыхал, ведь это единственное, что может тебя заставить заглянуть в будущее человека». Обладай Чичерин способностью видеть завтрашний день молодого человека, а может для весны двадцать второго года и послезавтрашний, он бы подивился верности этой своей мысли: в этот предмайский вечер в палаццо д' Империале рядом с ним сидел молодой Хемингуэй…
А вечер обретал все большую задушевность, и этому немало способствовал его главный заводила — с той веселой простотой, какая была свойственна умению Воровского разговаривать с аудиторией, Вацлав Вацлавович начал концерт и неподражаемо прочел Чехова — мудрая кротость и грусть, которые присутствовали в его чтении, казалось, отражали существо Воровского.
Пример Воровского воодушевил: большая делегация, состоящая из мужей почтенных, показала себя в неожиданном качестве — выступали все: читали стихи, плясали с самозабвенной страстью, делились воспоминаниями о поездках по белу свету; стихия доброго настроения завладела и хозяевами и гостями, все казалось значительным, остроумным, всем было весело.
А потом всесильный перст главного кашевара был обращен на Чичерина, и Георгий Васильевич пошел к роялю. Он коснулся пальцами клавиш, и все, кто был рядом, поняли! как ни значительно было все, чем блеснула до сих пор завидная импровизация, не в этом главное. Короче: то, что не сумели победить слова, сделала музыка. Да, именно музыка, лишенная конкретности слова, заставила мысль обратиться к существу. Точно возникла возможность сказать то, что не было до сих пор сказано.
Я сидел далеко от Георгия Васильевича и не рассмотрел его лица, но мне были доступны его глаза — в них мне виделись и доброта и храбрость, всемогущая сестра мудрости. И вот интересно: вечер, который начался столь бурно, завершился тишиной первозданной. Эта тишина чуть–чуть смутила и Чичерина.
Казалось, что это не музыка, а доверительный разговор. Все, что Чичерин хотел сказать, он приберег к этому вечеру. В этом монологе была та зрелость ума и чувства, которая единственно убеждает. Странное дело: не было произнесено ни единого слова, а добыты слова, которые обращали разум к неизведанному. Именно музыка делала твою мысль значительной. То, что ты был способен постичь сейчас, лежало за пределами твоих возможностей прежде. Будто только теперь ты понял существо происходящего. Волнение, которое дарила стихия звуков, очищало. Ты виделся себе больше, возвышеннее, сильнее, способным свершить такое, что до сих пор было для тебя не цо силам. Человек, сидящий за инструментом, точно объяснял происходящее, явилась та ясность видения, которую обретает человек не часто. Все казалось: отныне ты уже не сможешь говорить, как говорил прежде, иной образ мысли, сам язык иной… Наверно, это был тот род волнения, который способен и встревожить и открыть глаза. Музыка вытолкнула тебя за пределы мира, к которому тебя приковало время. Ничто не могло показать огромность этой новой вселенной, которую ты увидел, — музыка смогла… Было ли это достоинством человека, сидящего за инструментом, или музыки, которую он вызвал к жизни? Хотелось верить: и человека… Он жил в том же мире, что и ты, общаясь с тем же кругом предметов, понятий и слов, что и ты, а способен был сказать несравненно больше тебя… Когда человек перестал играть и сидящие в зале взглянули друг на друга, они увидели иных людей… Не отдал ли я себя во власть восторгу неуемному, не преувеличил ли все, чему только что был свидетелем? Наверняка преувеличил, но это то самое преувеличение, которое приближает нас к правде. По крайней мере так это понял я…
— Да надо ли было играть Бетховена? — спросил он, когда на исходе ночи я понес ему прессу: в предутренние часы, когда усталость подступала и к нему, он отдавался чтению прессы. — Не слишком ли это сумеречно для праздника, а? — Он точно встрепенулся, поняв, что говорит о собственной персоне, что было не в его правилах. — Вот получил телеграмму от Д'Аннун–цио, приглашает посетить его на Фиуме. Как вы полагаете? Д'Аннунцио — враг, но кто сказал, что надо избегать встречи с врагом? Надо ехать, но вот незадача…
Читать дальше