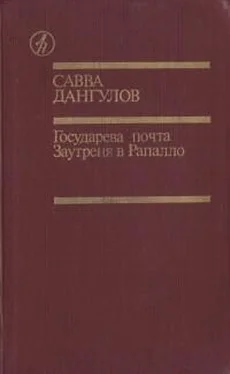— Скажи, Игорь.
— Вы думаете сию минуту: наверно, нет ничего страшнее того, что произошло…
— Чего именно?
— Когда сын перекидывается на сторону тех, от руки которых пал отец… Верно, думаете об этом?
Ксана заплакала, не скрывая голоса.
— Понимаешь ли ты, что говоришь? — Она точно поперхнулась. — Ой, ой, да как ты можешь? — Она выпростала ладони, стремясь сдавить ими грудь и сдержать плач. — Как ты можешь?..
Он оторопел:
— Ты сдурела, Ксанка? Скажи, сдурела?..
Ее лицо мигом стало мокрым от слез, мокрым и некрасивым, не похожим на нее.
— Да утрись ты — противно на тебя смотреть… Господи, вот ведь одарил на веки вечные…
Она заревела с новой силой и, закрыв лицо руками, выбежала. Рерберг встал, дотянулся до двери, хлопнул.
— Вот ведь глупа, ой глупа! — Он оглядел нас, точно взывая к состраданию — ему очень хотелось пожалеть себя. — Ну хоть ты скажи, дядя Федя, — взмолился он, обращаясь к Федору Ивановичу, но тот был темнее тучи, только ворочались заметно покрасневшие глаза — он пил сегодня много, при этом все больше настойку. — Скажи, дядя Федя…
— Ей или тебе, Егор?
17'
499
Рерберг помрачнел: он недоуменно иробко посмотрел на Федора Ивановича, его сознание отказывалось понимать услышанное…
— Ну скажи мне, если хочешь, скажи, дядя Федя… Федор Иванович отодвинул чарку с настойкой,
точно она ему мешала сказать то, что он хотел сейчас сказать.
— Побойся бога, Егор, не кощунствуй! Рерберг побагровел.
— Ведь ты же сам сказал, что готов драть из России! — взмолился Рерберг, но Федор Иванович только усмехнулся.
— Верно, готов был, пока тебя не увидел, а вот увидел и расхотел…
— И Николу не отпустишь?
— Да он и сам не решится, если расскажу про твои колодки…
— Ой, дядя Федя!
— Не пора ли нам? — сказал я и посмотрел в открытую дверь на море — залив Специи был волнист, точно хлебное поле перед жатвой. — Сегодня еще столько дел, — заметил я и посмотрел на Марию; она встала не сразу.
— Я все хочу сказать: этот ваш Чичерин не от мира сего, — произнес Рерберг, все–таки он был не так прост, как мог показаться: даже в нынешнем своем не очень завидном положении старался устоять. — Откуда он залетел такой в наш день? — Он рассмеялся с виду искренне. — Как будто ходит не по земле, а по небесам. — Он вновь взглянул на Марию: он ждал от нее ответа. — И потом, наивен диковинно… Поймите: по ним надо картечью, да в упор, а он… Не от мира сего!
— Да, не от мира сего, — вдруг распечатала уста Мария. — Не от мира, — повторила она не без труда.
Мы возвращались в Санта — Маргериту, и молчание, нерасторжимое, было нашим спутником. У меня не было желания нарушать его и тогда, когда мы шли с Машей от машины к отелю, погрузившись в полутьму сосен. Но Маша точно дожидалась этой минуты, чтобы, схоронившись в тень, произнести смятенно:
— Наверно, навсегда останется тайной, как человек одного круга, одной семьи, одной крови принимает веру, которая является иной и для этого круга, и для этой семьи, и для этой крови, наконец…
— Ты хочешь назвать это тайной?
— Для меня это тайна, а для тебя? Разве нет?
— Бедный Зосима! — вырвалось у меня.
— А все–таки жестоко обошлась с ним судьба, — произнесла она, остановившись.
— Ты винишь судьбу?
— А кого еще?
— Тебе жаль его?
Она подняла на меня гневные глаза:
— Жалею его и, не боюсь сказать, люблю… Не боюсь…
Сегодня Чичерин пригласил к себе Хвостова, не преминув сделать это, когда я был у него в кабинете.
— Иван Иванович, как мне сказали, Факта выехал в Рим и пробудет там дня четыре, а мы не можем ждать… — Георгий Васильевич говорил это Хвостову, однако смотрел на меня: его интересовала моя реакция. — Не могли бы вы сегодня же выехать в Рим и пробиться к Факте?.. На итальянскую прессу может оказать влияние только он — надо склонить ее принять не столь воинственный тон. Вы поняли?
Я опешил: вот она, чичеринская терпийость, — он делает шаг, который, бьюсь об заклад, не сделал бы никто иной.
— Как вы, Иван Иванович?
Хвостов молчал — он явно не допускал, что у его отношений с Чичериным будет именно такое продолжение.
— Ну как, Иван Иванович?
— Благодарю вас, Георгий Васильевич, я готов.
— Тогда, как говорили наши старики, с богом… Хвостов вышел (он был едва ли не счастлив), а Чичерин, взглянув на меня, ухмыльнулся:
— Не одобряете? Нет, нет, скажите искренне: не одобряете?
— Ни в коем случае, Георгий Васильевич.
Читать дальше