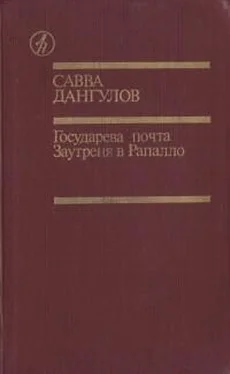Если есть нечто такое, о чем ты хотел бы спросить себя в связи с Чичериным, то оно уместилось в ответах Георгия Васильевича. Ну, разумеется, это чичеринская исповедь, единственная в своем роде по своей лаконичности, выразительной силе и искренности. Не знаю, говорил ли он обо всем этом, значительном и сокровенном, в ином месте. Полагаю, что не говорил. Однако тут вот, в этой исповеди, даны ответы на такие вопросы, без которых нет Чичерина. Нет, речь идет даже не об эстетических пристрастиях Георгия Васильевича, что само по себе не ново, а о той сфере заповедной, где эти пристрастия соотносятся со взглядами на жизнь, борьбу, призвание, образуя то, что принято называть политическим идеалом. Этот идеал благороден: «Философия? Философия выполненного долга». Приняв этот идеал, Чичерин точно отдает себя в жертву вожделенной цели — никакой пощады. «Мои качества?.. Страсть к всеобъемлющему знанию, никогда не знать отдыха, постоянно быть в беспокойстве». Давно замечено: мечта человека тем выше, чем больше он сохранил в себе идеалы своей молодости. Наверно, особенность того, что есть Чичерин, и в том, что он пронес через десятилетия своего земного бытия многое из того, что исповедовал на заре дней своих. На его формуле о счастье точно лежит отблеск зоревой поры. «Величайшее счастье?.. Недостижимые и вечно сияющие горизонты, неизгладимые и вечно страстные воспоминания, испытывать вторжение проносящихся ветров и трепет всемирных веяний… И вот что хочется осмыслить: он избрал этот образ жизни не потому, что его кто–то ему навязал. Нет, так надо и так хочется ему самому. Поэтому, как ни трудна была жизнь, он воспринял ее, по слову почтенной старины, как дар небес. Для него счастье — это прикосновение к созидательному огню, это эпикуреизм (вон как характерно для Чичерина!) выполненного долга, это ирония преодоленных пространств, а значит, тот зримый след в жизни, который, впрочем, имеет и иное название: «Одна борозда в степи бескрайней».
Я вернулся в Санта — Маргериту и, не заходя к себе, пошел к Чичерину. Мне показалось, что он ждал меня: предвечерние часы он отдавал сну, чтобы высвободить для работы ночь, а тут сон был отменен. Он стоял у окна, листая томик в коричневой коже, едва ли не без остатка уместившийся в не столь уж обширных чиче–ринских ладонях. Тютчев или Баратынский? (Вспомнилось любимое чичеринское: «Я обхожусь малым: Тютчев, Баратынский да, пожалуй, Моцарт — с меня хватит…») В этот раз — Баратынский.
Я видел у Чичерина этот томик. Он не столько читал весь том, сколько перечитывал полюбившиеся десять — пятнадцать стихотворений: их было достаточно ему, чтобы встревожить мысль.
«Освобожусь воображеньем и крылья духа подыму…» — он читал мне эти стихи и прежде. Потом прочел еще, пушкинское, тоже не впервые: «Ты царь: живи один…» Казалось необычным: человек, посвятивший себя единению людей, начинал петь хвалу отшельничеству. Точно он ищет оправданья своему бобыль–ному житью–бытью, ищет оправдания и объясняет. Отыскал же он у того же Баратынского: «И один я пью отныне! Не в людском шуму, пророк… Думалось: вот эта жажда самопознания, наверно, характерна для человека, который привык быть наедине с собой.
Он вернул Баратынского на письменный стол, но не захлопнул, а положил как бы ничком на раскрытые страницы, приберегая для себя возможность вернуться к нему.
— Как старик Ллойд Джордж? — спросил он, искоса посмотрев на меня.
Я рассказал, какое смятение объяло старика, когда его спросили: весть о Рапалло была для него внезапной?
— Вы думаете, что он знал об этом? — Взгляд чиче–ринских глаз был пытлив.
— Мог знать и благословлял, мог знать, — сказал я, не остановившись перед тем, чтобы пояснить. — И благословлял…
Благословлял! Почему? Я понимал, что пошел далеко в стремлении объяснить позицию Ллойд Джорджа, но хотел, чтобы Чичерин знал: мне виделись в нем, в этом мнении, свои резоны.
— Он понимает свою поездку в Геную так: англичане считают, что это его, Ллойд Джорджа, миссия, если хотите, его предназначение. Как убеждены они, никто, кроме него, не может найти общего языка с большевиками. Поэтому успех Генуи для него в первую очередь его личный успех. Да, у Рапалло есть свой срок созревания, оно возникло давно, и человек такого опыта, как Ллойд Джордж, должен был это предвидеть, а предвидя, сказать, если это и совершится, надо сохранить спокойствие. Нет, внешне он может, конечно, гневаться, и сегодня он показал в Сан — Джорджо, как он это умеет делать, но по существу… должен демонстрировать спокойную уверенность, умение скрепить оборванную нить…
Читать дальше