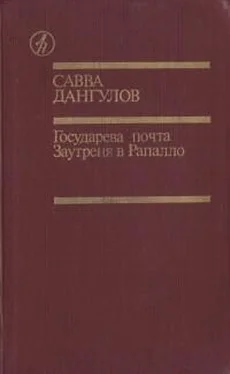— Значит, последовать за Игорем? Я бы последовал, но дело не во мне…
— А в ком?
— В моем Николе. Чтобы решиться, я должен верить, что ему здесь будет лучше…
Совсем рядом стояли пинии, тонкоствольные, застившие своими кронами звездное небо. Стояли только стволы — парк просвечивался, а небо было закрыто кронами. Там, где зелени не хватало, врывались звезды. Они были точно колотый лед, попавший в поле света, — их огонь был лишен тепла.
— У человека, которому хочешь счастья, ты не отнимешь родины, — заметил я.
— Но родина — это то самое, о чем не говорят, — отрезал он поспешно, не очень–то его устраивало продолжение разговора.
Он сидел онемев — в могучих дымах, которыми сейчас был обвит его ум, происходило нечто первозданное: мрак предрассветья, тьма сотворения. Казалось, с его губ срывается шепот, который еще не стал словом, не обрел внятность речи.
— Вы способны выслушать меня, отстранившись от происшедшего? — вдруг спросил он. — Без предубеждений?..
— Слушаю…
Я понимал, что предстояло мне услышать. Если бы Федор Рерберг мог обратиться в Рерберга младшего, то он сказал бы то, что тот хотел сказать. Но перевоплощение было не в его власти, и он взывал к нашей фантазии. Он точно говорил: «Представьте, что перед вами Игорь Рерберг собственной персоной, только он и никто более!.. Простите за дерзость, но я стал текучим туманом, мглой, что укрыла сейчас воды Тибра. Меня нет, как нет моего мнения, моей заинтересованности, может быть даже моей корысти. Есть только Игорь Рерберг, его больное и воинственное существо. Оно вопиет — внемлите!» Итак, есть только Игорь — он, Федор, точно записал его речь на пластинку и пластинка уже крутится. Не беда, что источилась игла и поослаб–ла пружина, — у Игоря добрая дикция иречь вполне внятна.
— Дед и отец — истинно я был между молотом инаковальней, — произнес Федор Иванович от имени Игоря, он влез в шкуру молодого Рерберга с видимым удовольствием — казалось, он делал это многократно прежде, влезая в нее и из нее выбираясь, перевоплощение для него было процессом нехитрым. — Было фатально, что отец мой отказался от фамилии деда… Да, дед был Рербергом, а отец вдруг стал Надеждиным. В том кругу, в котором вращался отец, все меняли фамилии. В новых фамилиях было больше каленого железа и кремня, чем в старых. Очевидно, по этому принципу отец принял новую фамилию, которая тоже отдавала каленым железом. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что родные матери происходили с Надеж–динского рудника, и в перемене фамилии были и иные резоны. Итак, все размежевалось намертво, будто в одном отродясь не текла кровь другого: Зосима Надеждин — мой отец, Петр Рерберг — мой дед. Надеждин гнал свой пульман из края в край России, останавливаясь разве только на узловых станциях. Там, где сходил Надеждин на землю, составы становились мощнее, а паровозы прибавляли скорость — хлеб шел в Петроград и Иваново, горький хлеб восемнадцатого года… А у Петра Рербер. а все было иным. Больше ногами, чем руками, он выталкивал на середину комнаты картонный короб, перехваченный бельевой веревкой, и велел распаковывать. Встав на карачки, я сдвигал бечеву, и просторный пол устилался конвертами каждый с добрый фунт, а то и полтора. Дедовской рукой, которая хранила каллиграфическое умение Рербергов, было выведено: «Не опались ненароком!», «Держать подалее от огня!», «Беречь что зеницу ока!», «Хранить — нет ничего дороже!». Впрочем, той же рукой, способной писать с нажимом, было выведено на конвертах: «Баржи в Твери», «Хлебные склады в Торжке», «Лабазы в Клину». Он шагал по комнате, устланной пакетами так, точно по правую руку были эти самые лабазы, а по левую хлебные склады, шагал сам и велел шагать мне… Отец был Надеждин, а я все еще оставался Рербергом. И вот фокус: был бы Надеждиным — почувствовал бы себя равноправным, а остался Рербергом — точно принял на себя Рербергову опалу. С этой опалы все и началось: коли Рерберг, то и мало места на новой русской земле. И то правда: чтобы родная земля была тебе мила, равенство должно быть и твоей юдолью. Считал себя знатным человеком на земле русской, а оказался вроде вора. Да и на этом дело не кончилось! Да, как на той обетованной земле, где, схватив вора за руку, тут же отсекали ему эту самую руку — пусть трясет своей культей до далекого смертного часа: «Я вор и молю о презрении!» Да, я уже нес на себе этот венец, называемый Рерберговой опалой, и перст указующий был обращен на меня. Никто не говорил обо мне, что я сын Зосимы, говорили: внук Петра. А коли внук Петра, неси свой крест до конца. А может быть, есть место на земле, где эта культя как бы отрастает и превращается в обычную руку с запястьем, ладонью и даже перстами? Ну, например, Специя? А нельзя ли рвануть туда? Да, ринуться, преодолевая рвы, заполненные шипучим пламенем, как и стены, утыканные стеклом… Есть тут причина для утека? Есть, наверно! Но это не все. Человек — дитя природы. Как сурок, как
Читать дальше