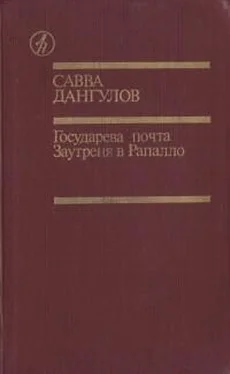Не позволит ли нынешний приезд в Берлин возобновить эти встречи? А если позволит, быть может, свое место займет и земная фантастика Курска? Интерес к этой фантастике в Европе непреходящ: в конце века француз–магнитолог Муро исследовал залежи руды и был потрясен обнаруженным. Едва ли не через двадцать лет прошел своей осторожной тропой немец Шварц, прошел, тщательно фиксируя виденное, и, онемев от изумления, уехал в Германию, бережно унося и свою немоту, восхищенную немоту. Едва добравшись до отчих пределов, многомудрый немец испустил дух — казалось, сама его кончина явилась следствием изумления, которое обременило сердце ученого германца, обременило и обрекло.
Нельзя сказать, что смерть немца смирила интерес к курской фантастике, скорее она пробудила этот интерес. Не исключено, что Курск своеобразно заявит о себе и в Берлине и в Генуе.
— Сказать «новый Рур» — не все сказать, — заметил Рудзутак.
— Далеко не все, — согласился Леонид Борисович, — Курск много мощнее, да и иной по своему существу: железная руда, железная… — Красин вступился за Курск с видимой страстью.
Утром мы увидели Новую Ганзу во всем ее блеске — Красин повлек всех к Феликсу Дейчу.
Завтрак был сервирован с грубоватым изяществом, чуть бюргерским: красная и белая рыба в ярко–зеленом окладе салата великолепно смотрелась на желтых керамических тарелках. С немецкой правильностью винная батарея была выстроена едва ли не по ранжиру, но главенствовало рейнское белое — ему отдали предпочтение и русские, при этом отнюдь не только потому, что были в этом доме гостями.
Послетрапезный час гости провели в библиотеке — расчетливый Дейч знал, куда повлечь Чичерина.
Хозяин показал свои дива: томик Гёте и фолиант Вольтера с автографами авторов, а потом как по команде появилась серия книг, исследующих доблести Ганзы и ганзейцев, — не было более действенного средства приблизить разговор к насущному, чем прикосновение к этим пыльным фолиантам, крытым телячьей кожей, желто–молочной, залитой воском и маслом, ссохшейся, в трещинах.
— Урок бессмертной Ганзы: ничто так не гасит огонь войны, как взаимный интерес, а следовательно, торговля.
— У купцов — хорошая память? — засмеялся Чичерин, в его реплике, как обычно, начисто отсутствовало категорическое — с ним легко было говорить.
— Именно, — подхватил деятельный Дейч. — В наших отношениях со славянским миром был свой золотой век: Ганза… — Он задумался: не иначе, его мысль зашла так далеко, что порядочно смутила и его. — Как у всех крупных явлений в истории, конец Ганзы неоднозначен: одни говорят, что ее сокрушили внутренние распри, другие — деспоты…
— Деспоты?
— Именно. Грозный, например… — Казалось, он и сам был изумлен, что у жизнелюбивой темы оказался такой конец.
— У немцев были свои деспоты, кстати, в их возвышении участвовали и купцы… — заметил Чичерин.
— И могут быть еще, при этом возникнут не без участия купцов, — согласился Дейч — можно подумать, что он вел разговор, чтобы утвердить эту истину: могут быть еще.
Он продолжал держать на своих раскрытых ладонях фолиант в телячьей коже: получалось, что из старинной книги он извлек эту мрачную истину о деспотах, которых вызвали к жизни и купцы.
— Но как предупредить появление деспота? — Он все еще смотрел в раскрытую книгу, точно стремясь найти в ней ответ и на этот вопрос. — Немцы считают: сила в предпочтении. Англичане наоборот: в отсутствии предпочтения.
— Вы сторонник английской точки зрения? — спросил Чичерин — хозяин сместил разговор в такую сферу, где, как он полагал, хранились ответы на все вопросы.
— Нет, разумеется, но у нас есть сторонники и этого мнения.
— Их много, этих сторонников?
— Они есть, — ответил Дейч.
Выходит, что мы пришли к Дейчу, чтобы познать мнение Мальцана и Ратенау. Очевидно, Мальцан за Ганзу, а следовательно, за предпочтение торговать с русскими, Ратенау — за то, чтобы ни одной из сторон не давать привилегии, а по существу за Антанту, за право иметь дело с англичанами, если быть точными, за преимущество иметь дело с англичанами.
Был смысл повстречать Феликса Дейча — иначе явишься к Иозефу Вирту обезоруженным.
И вновь сумеречная Унтер–ден–Линден. Невысокое небо, подсвеченное нещедрым светом уличных фонарей. Округлые купола соборов, украшенных громоздкой лепниной. Шуршание автомобильных шин по мокрому камню мостовых, сполохи фар, в ярко–желтом свечении которьтх прорвалась тревога.
Читать дальше