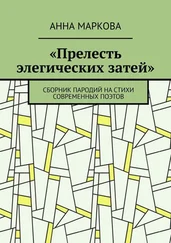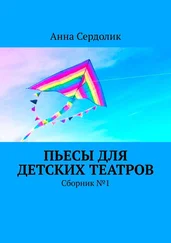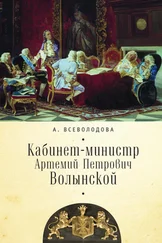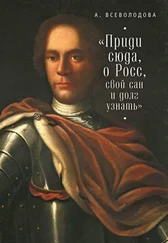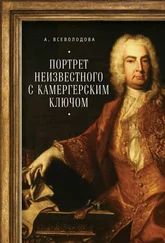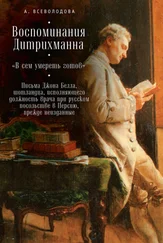До дур, карликов и шутов, губернатор, вопреки моде своего времени, был не охотник, тешась вместо того сказаниями русской старины, былинами и чудесами, поведанными каким-нибудь забредшим в город паломником. Наибольшим расположением губернатора пользовался инвалид, употребляющий за недостатком ноги костыль, из милости принятый на службу в портовую канцелярию. Впрочем, по неграмотности он не исполнял иных работ, как очинка перьев да доставка из ближайшего трактира обеда господам канцеляристам. Кроме того, он регулярно был угощаем и одариваем самим губернатором, любовно прозвавшим его «дедушкой».
«Дедушка» ходил из Охотска на Камчатку и Курильские острова, исполняя наказ сибирского губернатора, Гагарина Матвея Петровича, среди людей «Большого Камчатского наряда», приводил в русское подданство население островов Охотского моря и иные «ясычные народы» от Колымы до Амура, плавал с первопроходцами Невицыным и Соколовым, пособлял геодезисту Гвоздеву, в отряде, состоявшем из четырех дворян, двоих боярских детей, нескольких чертежников, мореходов из Архангельска и двух десятков служилых людей принимал бой с войнами «шалацкого роду». Сколько мог понять я со слов «дедушки», то были жители чукотского полуострова, а может и японцы. Они «имели бой лучный, а смирить их не можно, ибо кого и возьмешь в полон, себя сам мертвит. А без бою опять обойтись было не можно, понеже те шалацкие люди, оберегали проходы и по воде и по суху, и не дозволяли проведывать никому точно ли то остров, а не землица. А как, господину капитану Абадышеву особливо за переливом землицы искать наказано накрепко было из Санкт-Петербургу, он и домогался того перелива дойтить. Там и сложил буйну голову. А и непочто – на землице той и лесу пригодного к строению нимало не нашли. Мнилось капитану, упокой Бог душу его, великие верфи строить, каковые вы, государь мой, учредили в Астрахани для Персидского походу, и от каких ныне не токмо городу, но и всему наместничеству великая идет слава и польза по купечеству. Только в той землице, куда мы пришли, сосна и березняк совсем оказались к корабельному делу негожи. А что до народа, то полоняники они не из важных – таковы господа, что никуды не годны, ходят в уточном платье (из кожи птиц сделанном), а вместо дров топят костьми и жиром, что зело гнусно. Так и что из пустого затевать? Вот кабы в той землице руду отыскать, так и 300 служилых людей и офицеров отрядить пристойно, а к ним и из ученых господ прибавить инженеров и геодезистов, чтобы учредить единую «генеральную карту». Не то много несуразного происходило оттого, что несколько было у нас карт, и они меж собою разнелись. Карта дворянина Львова, да «Якутская карта», да того капитана, что на «Селафаиле» командовал, да господина Козыревского карта – у меня и пальцев не достанет все карты, по которым мы ходили, поминать».
Такими речами занимал дедушка слух губернатора очень долго. Сам рассказчик имел за привычку увлекаться своей повестью, живописуя и перемешивая произошедшие с ним события в один сказ.
– А что, дедушка, не расскажешь ли как по якутскому указу до островов, что за Камчаткой лежат, ходил? Больно хорошо сказываешь, – говорил губернатор обыкновенно, как примечал, что гости уже мало занимаются кушаньем, но ещё не готовы приняться за кофе с вареньями и пастилами и ломбер.
– Помнишь ли, кормилец, как говорил я про японское судно, что разбило у берегов камчатских в Калигирской губе, находящейся от Апачинской губы к северу? С того судна вышло на землю десять человек, но камчадалы, неприятельски на них нападши, четырёх убили, а шестерых в полон взяли. Из сих шести человек попалися четверо казакам в руки, их коих один, именем Санима, послан был в Санкт-Петербург. Они в скором времени по-русски говорить столько научились, что на предлагаемые им вопросы могли ответствовать ясно.
С того момента и пошли мы на самые эти Курилы. Жители на первом острову не самые еще курилы. Настоящей курильской народ обитает на втором и прочих, далее лежащих к полудню островах. Но на Камчатке вошло в обычай называть курилами и некоторых из камчадалов, обитающих по южную сторону большой реки, хотя язык их разнствует от прочих камчадалов токмо некоторыми словами и произношением. Посреди жилищ их находящееся озеро называется Курильским, а на острову сего озера камчадальской острог стоит и назван Курильским же.
Кажется, что островные жители после бунту 1706 году хотя не все, но по большей части с матерой земли туда перешли. Успех от бою сей был, что жители реченного острова, потеряв десять человек своих в сражении и видя немалое число раненных, склонились в вечное подданство. Только не взято было с них ясаку, ибо на острову ни соболей, ни лисиц нет, также морских бобров там не промышляют, а живут только с промыслу нерпы или тюленей, и платья носят из кож нерповых и птичьих, из лебяжьих, гусиных и утячьих. Впрочем, казаки приписывали курилам великую храбрость в бою и выхваливали их паче всех народов, живущих от Анадырского острогу и по всей Камчатке.
Читать дальше
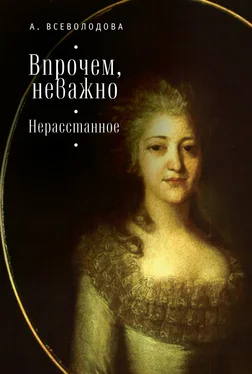
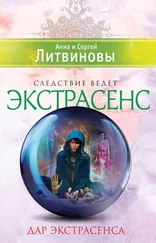
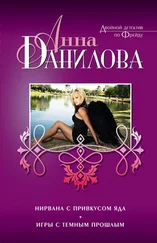
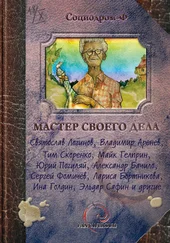
![Анна Калинкина - Метро 2033 - Они не те, кем кажутся [сборник litres]](/books/404544/anna-kalinkina-metro-2033-oni-ne-te-kem-kazhutsya-thumb.webp)
![Анна Князева - Детектив для уютной осени [сборник litres]](/books/434579/anna-knyazeva-detektiv-dlya-uyutnoj-oseni-sbornik-li-thumb.webp)