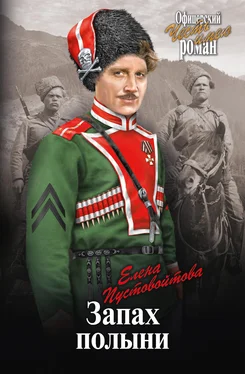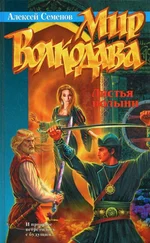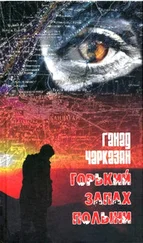Позади – смерть. Впереди – неизвестность и тоже смерть.
Бросали патроны, винтовки, пулеметы.
И мертвых.
Мертвых бросали так же, как и ставшее обременительным оружие. Чуть оттащат в сторону и оставят коченеть. Даже не присыпят снегом. Нет сил. Все измучены, а сердца так переполнены страхом, что не дрогнут при виде мертвеца на руках у вдовы с малыми детьми. Лишь отведут глаза, страшась мысли самим остаться обочь дороги, и бредут дальше. Ни чужая смерть, ни крики по покойнику не в силах были остановить это угрюмое людское движение.
Их отход никто не прикрывал. Некому было. Счастье, что преследовавшие их два полка кавалерии красных были в таких же условиях. Голод, холод и болезни оказались единственной верной охраной отступающим. Так что Дмитрий на своей шкуре испытал, что такое командир и как много значат его поведение, личный пример и подвиг.
Дутов, как и все его войско, был обессилен, подавлен. Добровольно подчинившись молодому атаману, сославшись на усталость, тут же уехал с гражданской женой в еще не тронутый войной Лепсинск – ведать административными делами. Истощенные, измотанные оренбуржцы, разбитые сознанием бесцельности своих мучений, передавая друг другу разговор атаманов, матюгались, митингуя:
– Он устал! Но он командовал, а мы кровь проливали! Он ехал на лучших конях и в повозке, а мы пеши шли и куска хлеба не имели! Так кто же устал больше? Мы устали не меньше его…
Жаждущие отдыха и не желающие воевать люди открыто роптали, не признавая над собой ничьей власти, кроме власти своего атамана. Такие разговоры вели к непослушанию, развалу. Как первая его примета, из оренбуржцев за границу побежали генералы со своими штабами. Затем – полковники. Нужны были крайние, решительные меры. Расстрелянные два полковника и три казака своими жизнями заставили умолкнуть остальных.
Все поутихло, но еще более приуныло.
Дмитрий, чудом не заболевший, но измученный и оголодавший, более похожий на живой труп, чем на добровольца, понимал, что такие настроения не могут радовать принявшую их сторону. Но он и сам все чаще и чаще ловил себя на съедающих его изнутри мыслях о большой ошибке, совершенной им, когда решил перебраться в мятежный, не подвластный большевикам Оренбург.
А ведь мог бы добраться до матери, тетки, а там рывок – и Европа.
Если бы все вернуть… Остаться с Анастасией…
Обнять, прижать её к себе – крепко-крепко, чтобы нельзя было у него её отнять никому, да так и замереть вместе с ней под жгучим солнцем на том дальнем полустанке возле зарослей пыльных, изодранных лопухов…
* * *
Елизавета, мягко шурша дорогим шелком, шла рядом и говорила, чуть задыхаясь:
– Вам ничего обо мне не известно, а я очень люблю серьезничать, Дмитрий, и, все замечают, серьезное мне к лицу.
Требуя от него подтверждения только что ею сказанному, игриво, но в то же время властно, заглянула в глаза:
– Может быть, вам трудно в это поверить, но я люблю говорить серьезно: об астрономии, философии, о путешествии к Южному полюсу, открыть который отправились несколько экспедиций… Я не боюсь трудностей, я бы сама хотела добраться до открытых только что новых русских владений на севере. Побывать на острове цесаревича Алексея, взглянуть, пусть даже издалека, на Землю Императора Николая…
Подождала немного, словно давая Дмитрию время ответить, и тут же, не в силах понять его молчаливого замешательства, почти приказала:
– Начинайте, пожалуйста. Серьезное – моя страсть. А вы нынче рассеянный до дерзости. Отчего?
Дмитрий с раннего вечера, приехав к Крачковским, не видел ни Анастасии, ни Павла. Прямо во дворе его встретила Елизавета – нарядная, торжественная, велела составить ей компанию и повела на прогулку, которая оказалась бесконечной. Всякий повод вернуться, какой бы Дмитрий ни придумывал, игнорировался или безжалостно высмеивался Елизаветой, казалось, стремившейся увести его от имения как можно дальше. Вот уже солнце село, превратив деревья в темные призраки, и сладкий запах цветов, что прятались в глубине парка, окутывал его дымкой очарованья, заставляя сердце сладко тосковать, а он все еще оставался в плену у Елизаветы.
Вдыхая запах цветов и поневоле прислушиваясь к ночной тишине, остановились у дальней скамьи.
– Я бы вам желала сказать кое-что.
На губах у Елизаветы улыбка, но в голосе тревога, и Дмитрий, будто предчувствуя, что сейчас произойдет что-то непоправимое, предостерегающе подняв руку, сделал от нее шаг в сторону. Но Елизавета, словно лунатик подошла к нему, не замечая его предостережений:
Читать дальше