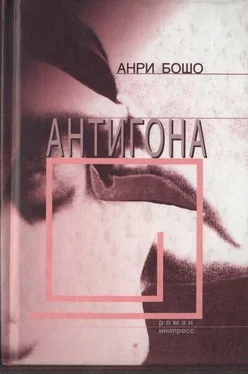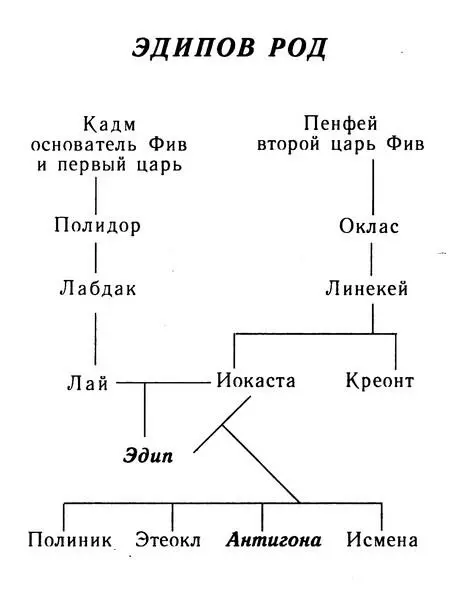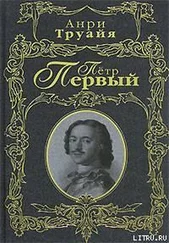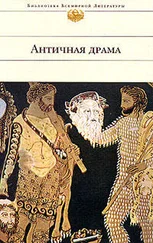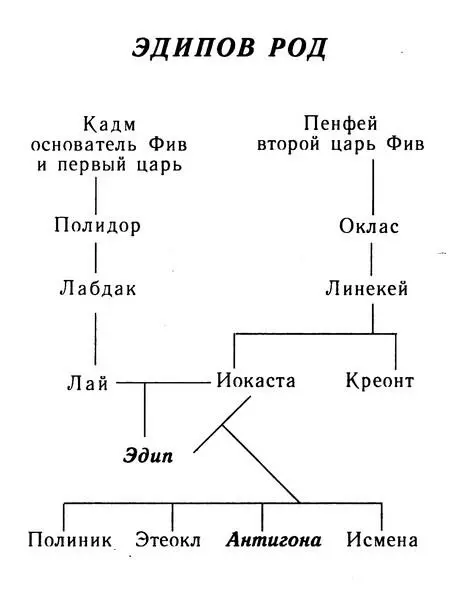
После гибели Эдипа глаза мои и мысли обратились к морю, и я постоянно искала убежища где-нибудь на берегу. Укрывшись в тени скалы, я вслушивалась в крики морских птиц, голоса людей и шум порта. Из головы не шел тот день, когда я услышала Иокастины слова: «Никогда не забывай, Антигона, что твой отец прежде всего — моряк». Моряк этот и увлек меня в свое безумное плавание, приведшее меня в землю, которой я больше всего и боялась. После десяти лет плавания землей этой стали Афины, где я теперь и пребывала. Одна, в трауре. В небе, распластав огромные крылья, кружила птица, — такие крылья были у Эдипа, Иокасты и у Клиоса, когда он писал красками. Я — не из них, я не создана для высокого полета и высоких мыслей.
Эдип однажды, неожиданно обернувшись ко мне, произнес: «Ты никогда не была на море, Антигона, но ты настоящий моряк. Сколько ты находишься в плавании без руля, без парусов, но судно твое не идет ко дну, несмотря на мою слепоту, припадки, Клиосово безумие, да и мое тоже». И мне вновь захотелось ощутить вкус счастья, которое я испытывала тогда, на невидимой дороге, по которой мы бесконечно блуждали.
Друг Клиоса Нарсэс вернулся из порта, куда ходил узнать, готовы суда ли к отплытию, и сел рядом.
— Фреска Алого храма почти закончена, — сказал он. — Клиос приглашает посмотреть ее завтра.
— А почему храм алый?
— Это пещера, объяснил Нарсэс, — куда рыбаки и пастухи приходили с незапамятных времен молить богов и почитать их. Логово тьмы вдохновило Клиоса, он обвел вход в пещеру алым цветом, и «алый» стало в конце концов названием подземного храма.
На следующее утро, пока мы по еле заметной тропке поднимались в гору, на небе разгоралась чистая, прозрачная заря. Грот был скрыт скалами, солнце слепило глаза, и я не сразу увидела вход. Вдруг в глаза ударил алый цвет — он, как Клиос, заставлял подчиняться ему. И меня сразу же захлестнула волна счастья: я увижу его, вдохну его запах, почувствую своими руками его радость. Мне захотелось глубже погрузиться в этот алеющий призыв.
Алый цвет захватил меня. Я ощущала его на отполированных стенах, я ступала по нему, когда он сам становился огромными плитами. Алый цвет уходил во тьму и, смешиваясь с чернотой, не исчезал в ней: Клиос сумел заставить этот несгибаемый багрянец сиять тысячью цветов.
Внутри пещера была полукруглой, и купол ее, сужаясь, устремлялся вверх. Эта совершенная форма и игра красного, который струился вокруг меня, то темнея, то становясь поистине алым, переходил из одного оттенка в другой, заворожили меня. Глаза мои привыкли к этому таинственному свету, и тогда из тьмы выступила фреска.
Божество и чудище змей сплелись в один клубок: Пифона пронзали множество стрел, и одна из них все еще торчала в его змеином теле. Тем не менее он добрался до небесного лучника и вступил с ним в ближний бой. Конец схватки уже близился, потому что силы противников были на исходе. Серая шерсть, покрывавшая чудовище, не могла скрыть глубокие раны. Длинные седые пряди свисали с шеи и развевались на голове меж рогов. В этот-то момент, стараясь повалить Пифона и не дать ему ударить рогами, божество и схватило его за дикую голову.
Сам же божественный лучник с блиставшим в ореоле света оружием представал как бог восходящего солнца. Битва жестока, но победа божества очевидна. Чудище вместе с силами тьмы, уступая лучнику, упорно сопротивлялось, но, когда солнце затопит своим сиянием небо, силы тьмы уже не смогут защищать бывшие свои рубежи.
Как только я очутилась в этом огненном чреве, во тьме материнской утробы, меня охватило огромное напряжение. Все говорило о пылающей тропе, проложенной Клиосом и Нарсэсом, все — кроме фрески.
Мне нравилось божество восходящего солнца, его стрелы, его торжествующая мальчишеская гордость, но и чудище со своей седой гривой, тяжелой прародительской плотью и свидетельствами древности мне тоже нравилось. Оно воплощало темную глубину памяти и грубую правду истин, которых небесный лучник еще не знал и, может быть, никогда не узнает. Опасно и неправильно одерживать верх над этим чудищем и изгонять отсюда, полностью посвятив свету подземное царство Пифона. Клиос сделал превосходную фреску, но истина в ней холодна и чужда тем неизмеримым глубинам алого цвета, который потерял чистоту звучания, но по-прежнему будоражил мою душу.
Читать дальше