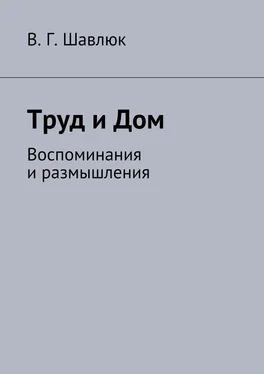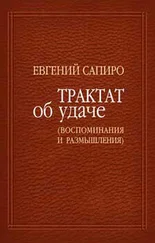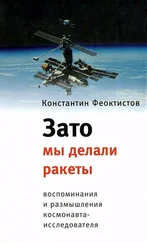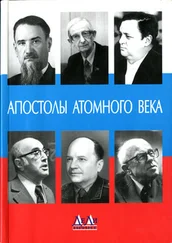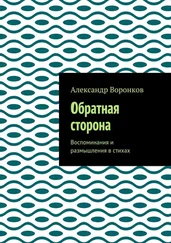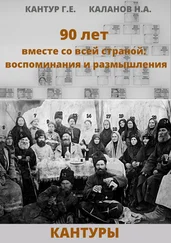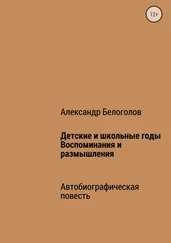После этого события немцы просто озверели, стали делать облавы, засады, аресты, всячески стремились ослабить партизанское движение, помощь ему со стороны населения. А ночью партизаны все их усилия сводили на-нет. В республике, таким образом, создалось «двоевластие» – днём власть немецкая, а ночью – партизанская (Советская).
В 1943 году немцы, имея крупные поражения на восточном фронте, творили на территории Западной Белоруссии чудовищные преступления перед мирным населением: даже сжигали целые деревни вместе с людьми всех возрастов. Кто бывал на мемориальном комплексе «Хатынь», то хорошо знает, что это кладбище деревень. Их там насчитывается около 200, сожжённых вместе с жителями. В округе, где я родился, тоже было 3 такие деревни: Кражино (вблизи г. Воложин), Слобода (недалеко от моей деревни) и ещё одна (к сожалению, названия не помню). Такой массовый террор не всегда применялся к деревням, в какой-либо мере действительно связанными с партизанами. Скорее это было для украшения своих отчётов о борьбе с партизанами, тем самым страдали совершенно невинные люди —старики, женщины и дети. Комплекс «Хатынь» состоит из могил, в которых находится земля от каждой сожжённой деревни, а сверху – мемориальная доска с её названием, датой гибели и количеством погибших. Отдельно выделен квадратный участок для 4-х берёзок, но растут только 3, а четвёртое место пустует, оно символизирует, что в войну в Белоруссии погиб каждый четвёртый житель. Завершается комплекс скульптурой старика, держащего перед собой мёртвого мальчика —подростка. Я уверен, что никто побывав там, не уходил равнодушным. Вполне заслуженно трое авторов этого комплекса были удостоены Ленинской премии.
Глава 2. Моя жизнь и образование на разных уровнях
«Есть только миг
между прошлым и будущим,
именно он называется жизнь»
Из песни.
2.1. Начальное и неполно-среднее образование
Моя долгая 87-летняя жизнь в начальной своей стадии прошла в труднейший для западных областей Белоруссии (Брестской, Гродненской и частично Минской) исторический период: сначала почти 19-летнее (до 17 сентября 1939 года) владычество Польши, получившей эти территории по Брестскому миру (1920 г.), затем кратковременная (до июня 1941 г., т.е. менее, чем на 2 года) советская власть, после её – немецкая оккупация (до июля 1944 г.) и только после освобождения Белоруссии от немецкой оккупации произошло историческое объединение этих западных областей с восточными областями (Витебской, Могилёвской и Гомельской) в единую Белорусскую советскую республику. И только тогда народ свободно вздохнул от этих частых перемен.
Весь указанный период был самым значимым в моей жизни. Я его помню и, наверное, не забуду до конца своих дней.
Молодое поколение послевоенной поры, а тем более сегодняшнее, имеют слабое представление о том трудном времени, которое пережил белорусский народ, особенно западных его областей. Для многих теперь это уже история, которая сейчас ни в каких учебниках не фигурирует и не изучается. Даже мои дети, а тем более внуки, практически ничего об этом не знают и не случайно просят порой меня рассказать хоть что-нибудь о том времени и людях, тогда живущих в моём окружении, и, конечно же, о себе и моём жизненном пути. Из этих соображений я и решил сейчас, имея больше свободного времени, написать только чисто по памяти данные заметки, не претендующие на их широкое оглашение, но имеющие, на мой взгляд, хоть некоторый интерес для моих детей, внуков, близких родственников и людей, меня знающих или помнящих.
Конечно, изложенные заметки не сравнимы и ни в чём не подменяют такие выдающиеся произведения белорусских писателей и поэтов, описывающих жизнь и быт белорусского населения того времени, как «Новая зямля» и «Сымон —музыка» Я. Колоса, «Курган» и «Павлинка» Я. Купалы, «Люди на болоте» И. Мележа и целый ряд других романов и поэм. Но нигде я не встречал ответа на вопрос, как крестьяне, живущие натуральным хозяйством, сами себя обеспечивающие, добывали себе одежду, обувь, орудия труда (плуги, бороны, пилы, топоры, косы, серпы, конскую упряжь), откуда брались телеги, сани, топливо, кухонная утварь и т. д. Ведь всё это практически нигде не продавалось, да и купить крестьянин был не в состоянии, ему просто не было возможности где-то заработать пусть даже небольшие деньги. Да и денег, особенно в годы оккупации, никаких не было. Оккупационные немецкие марки за деньги просто никто и не считал. При поляках лучшую молодую корову можно было купить (и если повезёт) за 100 злотых. Но чтобы их заработать, требовалось затратить большой труд. Например, жнея за весь длинный летний день жатвы могла заработать не более 1,5 злотых, мужчина на косьбе за день не более 2 злотых. Основная валюта была – это соль, мыло, сахарин, керосин, продукты, даже спички. Цен никто не устанавливал, их просто не было. Всё определялось по договорённости. Чтобы уйти от нищеты, многие бросали всё и уезжали кто —куда. При поляках – это преимущественно в Южную Америку (Аргентина, Уругвай, Бразилия, если поближе, то в Латвию). Через некоторое время кое-кто из Латвии возвращались, везли с собой или швейную машинку Зингер (ручную, а ещё лучше – ножную, которые могли делать только прямые строчки), или велосипед. Такие товары в деревне считались верхом богатства, ни один житель моей деревни их не имел. Легковой автомобиль (помню даже цвет —синий) я впервые увидел в 12 лет, немецкий, вёз какого-то офицера.
Читать дальше