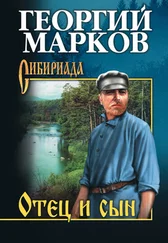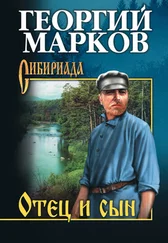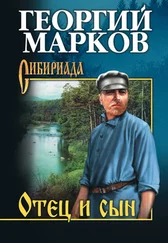— Георгий! Ты не узнаешь меня?! — слышу возглас, и в ту же секунду бросаюсь к человеку, хватаю его за свободную руку.
— Семен Петрович! Кто тебя так?
Это был действительно близкий мне человек — Шпаков Семен Петрович, Семушка, Семяка. Почти мой земляк из-за Чулымья, секретарь Пышкино-Троицкого райкома комсомола, а затем секретарь райкома партии этого же района, сын командира партизанского отряда, сам юный партизан, парттысячник с химического факультета университета, мой преданный старший друг (на семь лет старше меня), мой добровольный учитель по химии и физике.
Он прижал меня к своей груди, всхлипнул, рыдания вырвались из его горла.
— Отойдем в сторону, на нас смотрят, — сказал он, так как несколько прохожих уже остановились и с любопытством смотрели на двух мужчин, тискавших друг друга в объятиях.
— Куда пойдем, Семяка? — спросил я, называя Шпакова самым дружеским именем, каким называл его когда-то в дни его молодости.
— Только на остров, Георгий! Здесь нас могут услышать, — он обеспокоенно посматривал на прохожих, говорил вполголоса.
Переулком мы спустились к Томи, по узкому тесовому настилу перешли на островок возле устья Ушайки и забились в самые густые заросли тальника.
— Все, что расскажу, Георгий, тайна. Я дал пять подписок. За разглашение все может быть, вплоть до расстрела… Там фашисты, там изменники. Они обманывают партию, обманывают Сталина. Не верь ни одному слову, будто кто-то там озабочен истиной. Меня терзали долго и изощренно. Я наговорил на себя горы лжи. Я шпион и немецкий, и французский. Я племянник японского микадо… В моей подпольной десятке склад оружия на целый взвод… Почему выпустили? Загадка! Какой-то новый зловещий расчет. А может быть, потому, что я уже не человек. Я весь кровоточу. У меня отбиты и почки, и селезенка, и печень. Жить мне несколько недель…
Семяка рыдал. Слезы текли по его вздрагивающим щекам, капали на рубаху. Вместе с ним плакал и я — не верить Семяке, сомневаться в том, что он говорит правду, я не имел никаких оснований. Это были часы горького и окончательного прозрения, крах последних остатков сомнений.
Мы просидели с ним на островке пять часов. А когда, наконец, решили разойтись — сделали это по одиночке, по разным тропам, как делали в годы царизма революционеры-подпольщики, создавшие целую школу методов и приемов подполья.
Первое, что мне сказал Семяка на следующей встрече, были слова, выстраданные им в подвале томской тюрьмы:
— Не медли ни дня, отправляйся в Москву. Чем скорее узнают там о наших доморощенных фашистах, чем скорее дойдет вся правда до Сталина, тем скорее будет положен конец безумию изменников революции.
«Отправляйся в Москву»! — легко сказать. А на какие шиши? До нее четверо суток пути, да и там где-то надо приютиться, иметь хоть самую скудную еду.
Но Семяка был прав. Любой ценой надо было выбираться в Москву. Время шло, текли месяц за месяцем. На мои заявления, которые я слал одно за другим то в ЦК, то в партколлегию, то прямо на имя Сталина, не было никакого ответа.
Возможно, сборы мои затянулись бы надолго, если б не разразилась новая беда. В одну из ночей был арестован мой старший брат Иван, недавно восстановленный в партии в краевой инстанции.
Во время обыска, наряду с его краеведческими записями, картами, зарисовками древних стоянок и месторождений ценных ископаемых, были забраны черновики моего незавершенного романа и рефераты по различным историческим и экономическим вопросам, составленные, естественно, по широко известным книгам.
Откладывать поездку в Москву дальше было уже нельзя. Я продал на «толкучке» свою кожаную тужурку, по пятерке-десятке выпросил в долг у некоторых родственников, и поехал полный уверенности, что я все-таки чего-то добьюсь. Единственное было у меня опасение — доеду ли, не схватят ли меня в Омске, не пошлют ли к брату на «свидание», по дорожке, проторенной многими, очень многими. Но все ж доехал.
Сурово и неприветливо встретил меня великий город. Хлестали обильные дожди ранней холодной осени. Хмуро ползли низкие тучи над Москвой, и люди показались мне какими-то насупленными, молчаливыми. У меня еще сохранились кое-какие адреса комсомольских работников Москвы. Попробовал позвонить кое-кому по телефону, ответы были в основном схожие: «Его нет и когда будет неизвестно», «он здесь больше не проживает», «просим больше не беспокоить».
Я понимал, что таится за этими ответами. Комсомол подвергался сосредоточенному разгрому.
Читать дальше