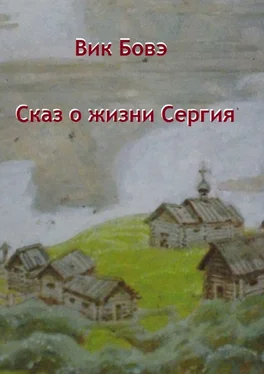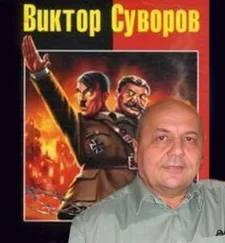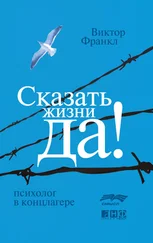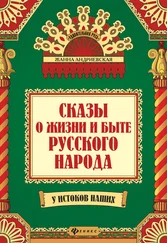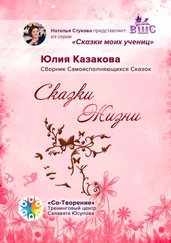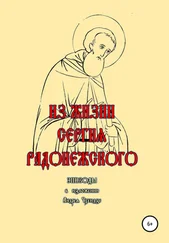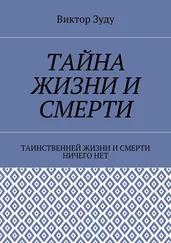Когда до Дмитровского селища оставалось совсем немного, то спросил Кирилла Афанасьевич у десятника про странное поведение тамошних смердов и старосту ихнего.
– Давно меня интересует, Иван, почему люд сей каждую весну предпочитает мокнуть, но не переселяется на гору? – вопросил воевода.
Ещё минуту назад говоривший без умолку Чириков-Вислый, сделался сразу сумрачным, совсем непохожим на себя.
– Вести сказ про то, значит на себя беду кликать, – лишь вымолвил он сдавленным голосом.
Варфоломей, ехавший вслед за отцом и за всю дорогу не проронивший ни слова, неожиданно проговорил:
– От той горы, каковая среди людей прозывается Дмитровской, никому беды быть не может.
– Как же быть не может, ежели маковка на ней, в кое-каковую пору посвечивает, а в иную и вовсе возгорает!? – вырвалось у пожилого десятника.
Воеводу это известие сильно заинтересовало, а потому он спросил у Ивана Чирикова:
– Как таковое возможно, дабы маковка горы возгораться могла?
– Вести сказ про то, лишь горести потворствовать, – упрямо повторил десятник, и хотел отъехать от воеводы, но тот перегородил ему тропу.
– Тебе доводилось зреть, как та гора светится? – не отставал Кирилл Афанасьевич.
– Ох, да не пытай ты меня, боярин, сказываю же тебе, коли продолжать об том сказ, то быть беде.
– А дмитровские про горение ведают? – спросил воевода.
– Как же им не ведать, коли рядом живут, – совсем уже тихо произнёс десятник.
Поняв, что от Вислого ему сути не добиться, воевода решил поменять разговор.
– Ведаешь ли ты, десятник Иван, каковая недоимка за сим селищем?! – спросил Кирилла Афанасьевич.
– Про оброк, каковой до сей поры не привезён, дознанье уже учинялось. Молвить, что сея недоимка слишком велика, невозможно. Содеялась она вследствие прихода в селище четверки новых семейств. Староста уж допытывал, заказано ли зерно попридержать до последующего урожая. Тебя, боярин, не очутилось на наделе, а затем, как-то и позабылось вовсе. Мне же отчего-то мыслилось, что отряжались мы в Дмитровское совсем по иной надобности. А разве не так?
– Так то оно так, но коли мы здесь, то почему бы нам одним разом и с оброком не постановить?
– Что же, можно и про сею тяжбу помыслить, – согласился десятник.
– А люда в прибывших семьях много?
– Как мировой староста доложил, почти три десятка душ прибыло. Земли под пахоту им покудова нету, но избы уж определили справные.
– Мужиков, пригодных для ополчения и ратной службы, сколь?
– Ежели брать в расчёт и тех, кому под сороковник, то двадцать душ.
– Что же, даже вовсе не худо. Ежели их выучить, то и крепость оборонить возмогут.
– О чём это ты, Кирилла Афанасьевич? – настороженно поинтересовался десятник.
– Слушая твой сказ про трясину непроходимую, помыслилось мне. Хорошо бы на Дмитровской горе, да под защитой топи, определить крепость, дабы лучше и могучее Ломихвоста вышла. А как поставим, так ратные люди и понадобятся.
Иван Чириков, какой ехал бледным, и совсем с лица сошёл.
– Замыслил ты, Кирилла Афанасьевич, дело, каковое поднять никому не получиться. Не сыскать тебе в здешних наделах смерда, каковой бы на сей горе жительствовать согласился, а тем более кремник ставить.
– Это что же, про горение вершины, и во всей округе ведают? – удивленным голосом поинтересовался воевода.
– Ох, Кирилла Афанасьевич, доведёт весь твой спрос до немалой беды. Богом прошу, не пытай ты меня. Мыслю я, что на себя бедствие накликаешь, и на меня нагонишь, – вновь повторил десятник.
– Да что же такового особенного в сей горе, что и молвить-то, о ней заказано?! – ещё больше удивился Кирилл Афанасьевич.
Чириков-Вислый лишь отрицательно помотал головой, не произнеся при этом ни единого слова.
– На самой вершине в келье жительствует безгрешный человече, подобный афонским святогорцам. Фаворский свет тому старцу ведом, а безмятежность жизни старца стережётся небесным огнем. Вот по таковому случаю и опасается туда делать ход люд простой, – словно находясь во сне, проговорил Варфоломей.
Теперь уже и Иван Чириков, и Кирилла Афанасьевич смотрели на среднего сына воеводы с превеликим удивлением.
За три года до татарского нашествия на Русь случилось быть сильной грозе. Была та гроза, как после говаривали мужики и бабы, противоположенной естеству, и очень даже необыкновенной. Прогрохотала она глубокой ночью и почему-то только над Дмитровской горой, куда и ударила ветвистая молния. После же страшенного грохота с вершины горы в речку Вёрду потекли огненные языки. Достигая воды, пламя с шипением гасло, и от сего поднимались над селищем высокие столбы пара. До самого утра продолжалось такое изливание и лишь с восходом солнца прекратилось. Но ещё страннее, чем сама гроза, показалось тогда смердам селища, что от того огня не погорели деревья, которые в большом избытке росли на горе. А ещё через неделю после того ночного грохотания, стал окрестный люд примечать, что на самой вершине горы появляется световой столб. Упрётся в небо этакой бескронной сосновой стволиной, помигает с час-другой, да и погаснет. На что подумать смерды не знали, а потому послали гонца в Пронск – к князю и архиепископу. К тому времени, когда духовный пастырь прибыл в селище, свет уже больше не являлся, а потому обругав паству за ненужное беспокойство, священнослужитель удалился обратно восвояси.
Читать дальше