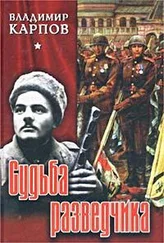После официального, как полагалось, представления вновь прибывшего, Старшой стал задавать вопросы. Дауров не был настроен после следственных подвалов на откровенный разговор. Он предпочитал отмалчиваться. Да и что он мог сказать большего, чем записано в его «Деле», который теперь лежал перед Старшим. Однако Даурова не меньше удивило, когда Старшой стал рассказывать о себе: не был ли это дешевый прием, к которому, бывало, прибегали следователи, провоцируя заключенного таким образом на взаимную откровенность.
Потом, спустя время, когда на его место поставят нонешнего Старшого, Дауров попытается что-то вспомнить из того, что рассказал о себе Старшой, но, к сожалению, он мог вспомнить немногое. Он, бывший некогда морской офицер, служил одно время под начальством Колчака. Под влиянием пораженческих настроений в Японскую войну, он оставляет службу и уезжает за границу. Судьба свела его с группой Плеханова. Он становится его учеником, а вернувшись в России перед первой революцией, примыкает к левым эсерам. Потом ссылка, Сибирь, побег, затем он в руках Колчака, но бежит прямо из-под расстрела.
Дауров еще не раз попытается что-то вспомнить из рассказанного, но ничего нового из их того первого разговора он так и не припомнит. А вот голос его! Он и сейчас слышит его и, кажется, слышал этот резкий с придыханием высокий голос раньше. Он, кажется, узнал его…
В тот день охранник непривычно долго возился у двери в вагон смертников, гремя ключами, прежде чем открыл ее.
Дауров… на выход, – раздался негромкий, будто спросонья, спокойный, а потому необычный в таких случаях голос, вошедшего в вагон охранника.
Хрипловатый с надсадом голос этот в вагоне знали все. Он всегда означал одно: приведение в исполнение приговора. И всегда только два слова – фамилию смертника и «на выход» – он произносил устало и нехотя. Разделяя эти слова долгим с надрывом кашлем, отчего слюна с шумом вылетала изо рта его по сторонам. А перевалив через отвислую книзу нижнюю губу, слюна срывалась вниз. Порою он отфыркивался, как лошадь, давился слюною, нехотя смахивая ее с губ залоснившемся рукавом шинелки, словно отмахиваясь, как от надоедливой мухи. Иной раз он не успевал подхватить рукавом сорвавшуюся слюну, и тогда она, тягуче, ползла вниз, на пол и тащилась за ним следом. На ходу он наступал на нее – и тогда рвалась нить слюны. Звали его по-разному. Прежний Старшой звал его только по фамилии, Криворотов. Нонешний же – по настроению. Может и по фамилии, но чаще по кличке, им же придуманной, Губошлеп.
А между тем вагон притих, зная цену произнесенных Криворотовым слов. Негромко сказанные, они сейчас, подобно случайно залетевшей и вдруг оказавшейся узницей птицей, бились испуганно в стенах вагона. Стало так тихо, будто все враз вымерли. Каждый из них знал свою судьбу смертника. Отсюда выносят только вперед рогами. И все же вызов на расстрел для них, повидавших смерть может и не раз, было всегда неожиданностью: пусть это будет завтра, но не сегодня, только не сейчас. Так уж, видно, устроен человек: пока он жив, – живет и его надежда.
Криворотов в ожидании ответа, нехотя потоптался на месте, а не дождавшись, позвал вторично. Гудением злых, как собаки, жирных неугомонных мух ответил вагон.
Все ждали. Если Дауров не отзовется, не подаст хотя бы голос, что жив, то охранник тут же вызовет другого. Кого?…Это повисло в воздухе…
Взор всех сейчас был устремлен в сторону двери вагона, где освещенная светом снаружи хорошо из полумрака вагона вырисовывалась сгорбленная фигура охранника.
Потянулись томительные минуты. И уже всем казалось, что охранник своим видом вроде как пытается вспомнить фамилию очередного да память должно его подкачала.
В вагоне притихла, казалось, даже сама смерть. Она перестала стонать, молить бога о пощаде, храпеть уже в предсмертной агонии. Но еще больше, казалось, всех страшила сама тишина.
Криворотов не спешил. Не дождавшись ответа, он стал будто присматриваться, выискивая кого-то в полутьме вагона. Он по опыту знал, что здесь редко кто спешит с ответом. Кому хочется на тот свет, даже если в тебе той жизни не больше наперстка да хоть с понюшку. Любая тварь и та запросто так жизнь не отдаст. Иного червяка, чтоб наживить на крючок, немало надо прыти приложить. А то человек! Сколь же в нем силы – в том даже ничтожном остатке его жизни!
Пока Криворотов, раздумывал, озираясь по сторонам, каждый из несчастных, поди, свою прожитую жизнь уже успел уложить в эти, может быть, его последние минуты жизни.
Читать дальше