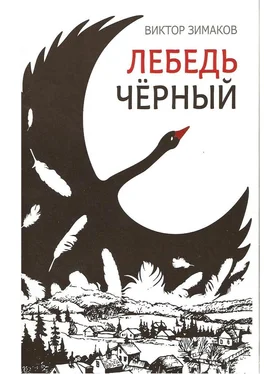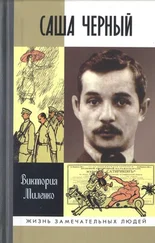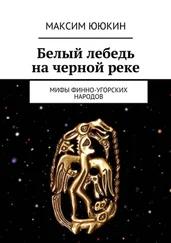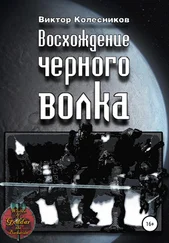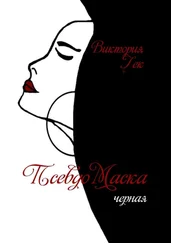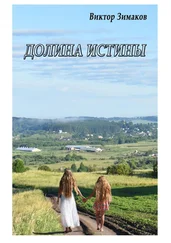Долго дивились и решали – одну или две буквы «с» в моем имени оставлять для акта земли на мою душу. Аж до самого начальника района дошли, но тот по-своему определил:
– Раз в Сибирь из России приехала, пусть Россией Ивановной и останется.
Дали нам угодье гектаров тридцать в предгорье, место это в простонародье «чернью» называлось, от близости к необитаемой тайге. Нам сразу полюбилась та сибирская сторона. Не зря говорят, что Сибирь – хребет всей России, как-никак, неразведанная кладовая недр отчизны, родительница самых великих и красивейших рек и озер. Синь неба, зелень лугов, тайги, белки высоких гор, глазам и душе просторно, радостно, свежо, здесь воля человеку. Кто здесь побыл единожды, ему уже в другом месте тесно, скучно, неуютно. Земля сочная, благодатная. Тайга и речки для прокорма полны живностью. Разнотравье на лугах, полянах, что на взгорках, радугой отливаются, пьянят, умиротворяют, чаруют человека. А главное, народ, что рядом проживал, радушно воспринял появление наших семейств. Они были смешанного происхождения, мировоззрений, религий, культуры, языка.
Сибиряки – народ особый, своеобразный. Сама природа тех мест не приемлет людей слабовольных, мрачных, жадных да лживых. У подобных два пути – искать иную сторонку для дальнейшей жизни, либо силы изыскивать в себе, чтоб от таковых пороков избавиться, здесь добронравие в почете. Аборигены – алтайцы, кумандинцы, татары, поляки, русские, ссыльные с окраин Российской империи, исконно русские, бежавшие в погоне за волей, старой верой, но почему-то кликались «челдонами», «гуранами», «поляками», «кержаками». Уже не одно столетие жили в мире и согласии без оглядки на то, кто какому Богу молится, в каких национальных одеждах ходит, что в закромах да в доме имеется. Староверы Никольские, ну «кержаки» по-народному, несколько мешков семян, пшеницы, овса да ячменя без всякой оплаты в помощь привезли, и, видя, что из подвод у нас три телеги разбиты, свои оставили. По «божеской» цене – по обмену на ложки серебряные, что были у моей матери, дали двух стельных коров да жеребую кобылу. Поляки, что были сосланы при царе, обрусевшие, из деревни Тайна, те за обещания наших мужиков оказать помощь в постройке моста, выделили два плуга с бороной. Алтайцы, самые доверчивые и добродушные из обитателей тех мест, без утайки нашим охотникам показали добычливые места, научили, где и как лучше ловушки ставить на зверьё, поделились порохом да дробью. Татарин, увидев случайно меня на поле, привел за рога молодого барана с предложением выйти за него замуж. Дед Михайло приостановил сей торг, мол, у девушки есть уже нареченный, ну, а если по-доброму, то я от подарка не откажусь. Барана тот отдал, а через неделю татары из села Балыкса уже на расплод овечек привели. Отец же Иван в знак благодарности дал серебряные монеты, которые пошли на украшение одежды их женщинам. Удивительным было для нас это первое время, что все вроде разноверцы и народ разноязычный, а вот праздники равноденствия да солнцестояния справляли вместе: дружно, мирно и весело. Пасха для нас была первым праздником в этом месте. В этот день за одним столом со староверами сидели гости со всех окрестных сел – Ужлеп, Бубычак, Еронда, Сайдып. Кумандинцы готовили в казанах сочную, душистую да мягкую баранину. Алтайцы, рыбу по-своему высушенную, клали на общий стол. А брага, хмельная, веселящая, как ни странно, у трезвенников «раскольников – староверов» была. Её в логушках особо готовили, да в логушки наливали.
Наше семейство из землепашцев, поставили караваи да пироги с начинкой из грибов, брусники, малины да черемухи. Они были признаны самыми аппетитными и вкусными на празднике. Все хорошо! Одного нам, приезжим поселенцам, как воздуха не хватало, мы другой православной веры, нежели кержаки, а вот места, где с Богом общение иметь, не было. Помогло семейство староверов Думновых. Без нареканий, что мы не по-ихнему обряду оказываем почтение Всевышнему, бескорыстно, в чем-то в ущерб себе, отдали нам бревенчатый домик, где зимой хранили пчелосемьи да утварь с пасек. Потому внутри благоухание мёда, воска, кедровых бревен к благости располагали. Мы, женщины, за пару дней тот домик в добрый вид привели, а мужики установили на крышу маковку с крестом. Так что на первое время, пока свою церковь не построили, наши души тоже пристанище обрели. Зажили вроде и не плохо. Деды работящими были, через пару лет раскорчевали делянки, срубили для себя и скотины кое-какое жилище. У нас, женщин, кроме всего хозяйства, в первое время ещё работа была – тянули сохи, коров-то жалко было, а коней не на что купить. Заимку нашу Михайловкой назвали, по причине того, что мужики все Михаилы были, кроме моего отца Ивана. Через пару лет разжились конями, плугами, купили шерстобитку, запустили маслобойню, стали мастерить жнейки, а ульи, логушки, чашки, ложки – это почти каждое семейство делало. В Бийске всё это продавали или меняли на железо, гвозди, разный инструмент.
Читать дальше