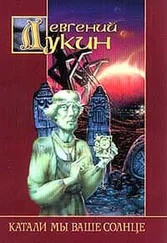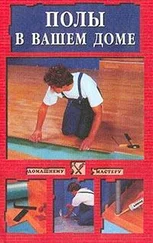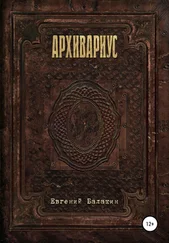Щербаков прислушался. За дверями раздавались какая-то возня и приглушённые голоса. После того, как Василий Степанович услышал крепкое ругательство, звук от удара и последовавший за этим чей-то стон, он быстро подошёл к дверям и широко распахнул их.
В коридоре солдаты Анисим Чуркин и Еремей Кабаков, ругаясь сквозь зубы, безуспешно пытались удержать здоровенного мужика. Одет он был в зипун, грубые сапоги, правая рука была перевязана каким-то тряпьём. Увидев секретаря, все трое замерли, и молча уставились на него.
– Что тут у вас? Зачем сюда? С рукой не ко мне, а в лазарет к Цидеркопфу пусть идёт.
Анисим, ткнув мужика кулаком в спину, вытащил из кармана мундира какую-то бумагу.
– Велено вам передать, ваше благородие, от коменданта.
Ещё раз окинув взглядом всех троих, Щербаков взял бумагу.
– Так… Тихонов Дорофей, крестьянин села Белоярского, приписан к Барнаульскому заводу. Вредительским образом отрубил себе топором два пальца правой руки. Вот так та-ак!
Щербаков внимательнее посмотрел на искалеченную руку мужика. Только сейчас он заметил, что тряпки потемнели и разбухли, и кровь каплями стекает на паркет.
– У тебя, Дорофей, эти пальцы лишние были, а? Тебя спрашивают, чего молчишь, как бревно?
У мужика на лице сквозь кирпичный загар начали проступать белые пятна. Видно было, что открытая рана на руке причиняет ему сильную боль, но он крепился. Крепился из последних сил.
– Чего молчишь, как немой?
Дорофей, морщась от боли, вдруг неожиданно улыбнулся.
– А чё говорить-то?
Секретаря эта его улыбка буквально взбеленила.
– Весело ему! Пальцы зачем себе отрубил, дубина? – орал он. – Знаешь, что бывает таким, как ты, за членовредительство?
– А мне, чтобы на землице работать, и остальных пальцев хватит. У меня дома пять ртов, а заводу калека без надобности.
По лицу Дорофея видно было, что он не только не раскаивается в содеянном, а, наоборот, искренне верит в правильность безумного своего поступка.
Оценив всё это, Василий Степанович понял, что кричи не кричи, а только от этого ничего уже не изменится. Ещё раз посмотрев на изувеченную руку мужика, он, устало махнув рукой, сел за стол.
– Не пойму я тебя, Дорофей, дурачок ты или прикидываешься. А ежели каждый вроде тебя начнёт себе пальцы рубить? Ты хоть представляешь, сколько пудов серебра должны мы ежегодно отправлять в Петербург? Тысячу! Да здесь каждый человек наперечёт, а он – пальцы рубить!
Василий Степанович замолчал. Он вдруг вспомнил картину вчерашнего дня. Когда возвращался он к себе домой на Олонскую улицу, дорогу ему пересёк обоз из пятнадцати подвод, везущих в длинных, похожих на гробы, ящиках руду с Зыряновского рудника.
Зрелище это было настолько привычным и обыденным, что Василий Степанович не придал этому никакого значения. На Барнаульский сереброплавильный завод ежедневно везли руду со всех рудников Алтая. А вот сейчас он как бы заново увидел и измученных дальней дорогой лошадей, и людей, устало шагающих рядом с подводами.
Заводская повинность отнимала у крестьянина самое главное – время и силы, но земля ждать не будет, её надо в срок засеять, и вовремя собрать урожай. Вот и идут люди на любые жертвы, лишь бы освободиться от заводского бремени.
– Значит так. – Щербаков, поморщившись, отвёл глаза от серебряного сатира, в который уже раз пообещав себе убрать со стола это страшилище. – Отведёте его в лазарет, пусть перевяжут, как следует. А коменданту скажете… скажете, что…
Василий Степанович задумался. Он очень хорошо знал, какая участь может ожидать этого горемыку, и почему-то не хотел этого. Неожиданно часовой механизм вновь пришёл в движение, и секретарь, быстро повернувшись, уставился на часы, словно они могли подсказать ему, что же всё-таки он должен был сказать коменданту.
– Ну, в общем, скажете его благородию, что Дорофей Тихонов получил вполне по заслугам.
Оставшись довольным таким несколько туманным ответом, Щербаков уткнулся в бумаги, давая понять, что разговор на этом закончен.
Дорофей, несмотря на мучительную боль, стоял спокойно и терпеливо, ожидая своей участи. Сообразив, что самое плохое для него уже позади, он широко улыбнулся и тут же, потеряв сознание, повис на руках солдат.
Чертыхаясь, они подхватили его бесчувственное тело и понесли к дверям, как вдруг те широко распахнулись, и в приёмную вошёл Иоганн Самюэль Христиани. Одет он был в только что сшитый камзол из зелёного сукна, обложенный серебряным позументом.
Читать дальше