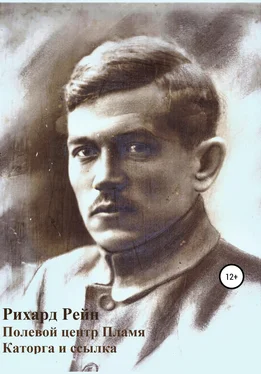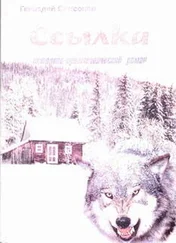Вернувшись со всеми предосторожностями домой, еще в субботу вечером, я на всякий случай запасся «свидетелями», которые бы подтвердили, в случае надобности, что я ночевал у них, разделся и лег спать, однако заснуть не удалось, так как беспокоили мысли о том, как проходила работа по разбрасыванию прокламаций у других товарищей, все ли обошлось благополучно, не попался ли кто и не попали ли разбросанные прокламации в руки полиции.
Как потом выяснилось, хотя полицейские урядники и обшарили все улицы и кладбища, но и там наши ребята перехитрили их и умудрились наклеить несколько прокламаций даже на дверях лютеранской церкви, находящейся в полуверсте от местечка; урядники же, успокоившись своим обходом, внутренне радовались тому, что «выслужились» перед начальством, и доложили последнему, что к «праздничку» все обстоит благополучно, представив в доказательство соответствующее количество найденных прокламаций. Каково же было удивление полицейских, когда на следующий день, к церковному звону, «благопристойные» граждане стали приносить в полицию найденные ими «листки» … Даже мой отец, найдя утром у наших ворот одну из таких прокламаций, начал совещаться с матерью о том, что с ней делать – нести ли в полицию или просто-напросто сжечь, чтобы след простыл. Нести в полицию—значило, по его мнению, дразнить её, если сжечь – могут подумать, что он нарочно не хотел предъявить начальству, да кроме того отец, как неверующий, был еще на плохом счету у духовенства и полиции. Мать советовала не нести, но, будучи глубоко верующей, придравшись к случаю, не замедлила прочесть отцу лекцию насчет того, что «бога надо чтить и начальство уважать». Шепчась и споря довольно продолжительное время, отец все время искоса поглядывал на мою кровать, как бы спрашивая мать—«чего доброго, может и он? – все ведь по ночам куда-то шляется». Мать же, словно угадывая его вопрос, стала успокаивать, говоря, что мое, мол, дело «молодо-зелено» и, следовательно, с девчонками шляется. В конечном итоге было решено, что, во избежание могущих возникнуть недоразумений, все же «листочек» в полицию отнести следует, что и было сделано отцом.
Вижу—делать нечего, тут не до сна: надо встать, одеться и отправиться к кое-кому из своих товарищей, чтобы обо всем разведать – так я и сделал.
Разведка моя обнаружила положительные результаты в нашу пользу и как будто, как я уже сказал, все обстояло благополучно, однако к полудню возникли серьезные опасения: кое у кого были произведены обыски, а Яков Спрогис и Заккис были арестованы и вечером под конвоем отправлены в уездный город. Мы обеспокоились тем, как бы не случилось провала, в Спрогисе мы все были уверены и ручались головой, что он, никогда не проявляя малодушия, не выдаст, на Заккис же трудно было положиться и мы боялись, как бы он в случае побоев, а может быть и пытки, не выдал бы весь наш кружок и тов. Лисиц.
К нашему счастью, против обоих арестованных товарищей у полиции не имелось никаких улик, и через две недели они были освобождены и вернулись к нам. А тут и солнышко заглянуло в наши края: приехал агитатор-организатор из Риги и, как сообщили мне Лисиц и Аболтин, устраивается «массовка».
«Как массовка, – спрашиваю я Аболтина, – ведь нас только десять человек да вас двое, какая же из двенадцати человек может быть «массовка»?» В ответ на мое удивление оба они ухмыляются и отвечают:
Да не десять человек, а почти пятнадцать десятков!
Я пустился в обиду по поводу того, что они держали меня в неведении и не сообщили мне, что, кроме нашего, имеются еще и другие кружки; смеясь, они ответили:
Да в этом ведь и заключается вся конспирация в нашей совместной подпольной работе.
Массовка, устроенная в трёх-четырёх верстах от местечка Руен, в лесу, и обставленная нашими патрулями, с двухкратными паролями и отзывами, прошла удачно: лишь на массовке я увидел, насколько велика и сильна была наша организация. Приезжим товарищем, по кличке «Клявин», был сделан обстоятельный доклад о целях и задачах всей латышской социал- демократической рабочей партии в целом – о целях, задачах, и методах борьбы нашей полевой организации, в частности. Каждый из нас с величайшим интересом и энтузиазмом слушал слова оратора и переживал с ним вместе те чувства глубокой радости, тревоги и стремления к борьбе, которые могут быть понятны только подпольным работникам, испытавшим на себе все условия подпольной работы, эти массовые собрания в лесах, когда каждый из нас, слушая приезжих товарищей, испытывал моменты глубоких переживаний, неописуемы, они то призывали к борьбе, то отдаляли сроки ее, то поднимали на недосягаемые высоты предстоящие волны восстания, то снижали их ко времени тяжелых испытаний – возможных расстрелов, виселиц, каторги и ссылки, – словом, речи ораторов на этих массовках казались опиумом борьбы и жертвы, приучающим к стойкости, выдержке и к терпению переносить невзгоды.
Читать дальше