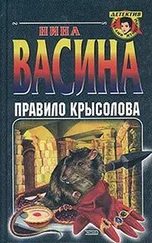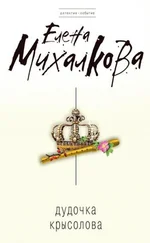— Не зовите меня так, — сказал он.
— А как мне вас звать? Не Пуци же?
— Хоть и Пуци. Это совершенно неоскорбительно.
— Ну да, да, — отозвался Ширах уже почти едко, — я, если б меня называли Катце, считал бы это совершенно неоскорбительным.
Ханфштенгль невольно усмехнулся: он как-то сразу понял, что Шираха кто-то так называл… только не на людях, конечно, а… Впрочем, какая разница, кто и где. В этом прозвище содержалось ничуть не меньше иронии, чем в его собственном. На котеночка Ширах походил никак не больше, чем сам Пуци на чистюлю. Наверно, тот, кто звал его так, не любил его. Наверно, тот… А это ближе к разгадке, чем все домыслы. Если не есть разгадка… И зачем же Ширах вообще упомянул об этом?..
Ханфштенгль остался совершенно невозмутимым с виду, хотя в душе его запорхали демоны вроде летучих мышей, вопя противными визгливыми голосами… С ним бывало такое — сразу и вдруг приходил момент истины — истины о человеке, с которым он Пуци-Ханфштенгль, имел дело.
О фюрере, например — и тогда Пуци испугался.
И о Ширахе теперь — и Ханфштенгль содрогнулся…
И, как в первом случае почти сразу пришла обреченность , сейчас явилась жалость. Бедный парень, бедный. Не чета этим ублюдкам Рёму и Хайнесу. Красивый, умный, одаренный мальчишка — и такое несчастье. Ведь женщины — это такое чудо. Взять хоть Хелен… да, Хелен… а впрочем, да ну ее.
Ханфштенглю сразу, как и тогда, в первый раз, показалось, что тот, о ком он уже все знает, знает об этом его знании — и потому он уставился на стенку, пока не услышал голос Шираха:
— Давайте хотя бы по именам. Не люблю, когда говорят «партайгеноссе». Эрнст, да ведь?
— Да, Бальдур.
— О чем вы думали?
— О женщинах, — спокойно ответил Ханфштенгль. Он действительно был теперь спокоен…почти. Все, что его тревожило в этом парнишке, нашло объяснение, и теперь Ханфштенгль старался только, чтоб не показать, никак не проявить то, что он к нему испытывал — жалость, сочувствие. Никакой брезгливости, нет. Мне, наверное, просто везло на таких людей, думал он. Он хорошо знал всего трех гомосексуалистов за всю жизнь — и они не вызывали у него ничего похожего на гадливость. Просто они были другие, не совсем такие, как все… ну и что? Гениальные люди тоже были не такие, как все. Вот и фюрер совершенно не такой, как все… Но фюрер и покойные гении не принимали сочувствия и не нуждались в жалости. Не то что эти, о которых в приличном обществе не говорят…
— А что вы думаете о женщинах?
— Я?
— Да, да.
— Я думаю, что они прекрасны, — тихо сказал Ханфштенгль, — что они прекраснейшие создания на свете, Бальдур.
— Хотел бы я быть женщиной, — тут же отозвался Ширах.
— Что?..
— Ничего, ничего. Послушайте… давайте сыграем, а?
— ЧТО?..
— Ну вон же… рояль. В четыре руки, а?
— Вам, Бальдур, до сих пор не дает покоя то, что я не дал вам стать музыкантом, когда вам было 17?
— Да я счастлив, что вы освободили меня от этой… обязанности.
— Хиндемита знаете?
— Знаю.
— Но только — очень тихо. А то Геббельс прибежит и сюда. И обзовет нас декадентами.
…Ханфштенгль остановился, вслушиваясь в ту музыку — и вдруг понял, что опять забрел черт-те-куда. За ним это водилось с детства — задумываясь о чем-то, он забредал так далеко от дома, что раза два даже пугался, не заблудился ли…
И сейчас он, 40-летний, вновь пережил это ощущение, хотя вроде и не было никаких разумных оснований для этого. Были в Мюнхене кварталы, которые он знал лучше или хуже, но заблудиться уже не мог. Он даже вспомнил название улочки, на которой находился, но даже это не до конца убедило его в том, что ему известно, где он — может, потому, что он никогда не видел эту улочку заснеженной. Без снега она была скучной, как серый старушечий чулок, а сейчас, под фонарным светом, искрилась, принаряженная и тихо, сказочно торжественная — словно ожидала, что по ней вот-вот величаво проедут сани Снежной королевы, запряженные пегими оленятами с розовыми носами и позолоченными рожками. И музыка вдруг зазвучала веселее…
Она звучит, действительно звучит, понял вдруг Ханфштенгль, и это не та, которую я вспоминал, это просто скрипка без аккомпанемента рояля — и слышится она вон из той приоткрывшейся двери под черным козырьком с завитушками.
Он подошел ближе — похоже, это был кабачок. Еврейский, судя по скрипичной мелодии. Что ж, сюда-то мне и надо, должно быть, неслучайно же он возник передо мною, как появляется в сказках неведомая дверь в стене, за которой может быть все, что угодно. Сокровище, например. Мне нужно только одно сокровище на свете, подумал Эрнст Ханфштенгль — душевный покой. И вряд ли я его здесь обрету.
Читать дальше