– Унгерна ты видел? – спросил его Ганька.
– Так же вот, как тебя. Нагляделся я на этого белоглазого барона. Он вроде помешанный, а храбрец первостатейный. Нисколько себя не щадит. Любит под пулями на белом коне гарцевать. В руках всегда носит бамбуковую палку. Своим казакам хорошее жалованье платит и всегда чистым золотом.
– А ведь я тоже у Унгерна в обозе был и Петьку Кустова видел. Хорошо, что он меня не узнал.
– Да что ты говоришь? Ну, значит, фартовый ты человек.
От Проньки Забережного, невысокого кареглазого подростка, щеголявшего в перешитых из японской солдатской формы штанах и мундире с блестящими пуговицами, Ганька узнал, что они с матерью все полтора года прожили на одном из таежных приисков, куда не заглядывали белые. Там они мыли из старых отвалов золото и этим кормились.
Выбрались они оттуда неделю тому назад и живут теперь в зимовье Архипа Кустова. У них нет ни коровы, ни лошади, зато у Проньки есть замечательный дробовик-двустволка, подаренный ему приезжавшим на прииск ординарцем его отца Гошкой Пляскиным.
– Выходит, ты знаешь Гошку?
– Знаю! Парень на ять! Он у нас три дня прожил. Мы с ним на уток охотились двое с одним дробовиком.
– Где он дробовик взял? Реквизировал?
– Не знаю. Вот приходи к нам, сходим с ним на озера.
– А меня возьмете на охоту? – спросил, подходя к ним. Никула.
– Да ведь ты едва ходишь, куда тебе с нами охотиться, – сказал Пронька.
– Ну, паря, я такой хромой, что стоит мне только размяться, как пятьдесят верст пройду и не присяду, – весело посмеиваясь, ответил Никула и обратился к Ганьке: – А ты знаешь, кто на днях из-за границы домой приезжал? Заявился Епифан Козулин. Он хотел забрать с собой Аграфену и Верку, да они ехать с ним наотрез отказались. Поставил тогда Епифан крест на могиле Дашутки, выкрасил голубой краской, наплакался у него вволю, а потом всю ночь пили мы с ним водку… На Василия Андреевича и на Романа он беда злой. Через них, говорит, все вверх тормашками пошло.
– А им от этого ни жарко, ни холодно, – грубо оборвал его Ганька. – Епифан же просто дурак, если ему мой дядя и брат весь свет заслонили.
Пообещав дать Ганьке на время свой топор, Никула удалился своей утиной походкой.
– Ты ему шибко-то не верь. Он на других наговаривает, а сам ваше точило приспособил. Я сам это видел, – сказал Пронька.
– Ничего, отдаст, никуда не денется. А не отдаст – из горла вырву, – пообещал Ганька.
Утром Авдотья Михайловна разбудила сына.
– Завтракай, Ганя, да пойдем на кладбище. Попроведуем сегодня отца с дедушкой, спросим у них, как нам жить теперь, горемычным. Выплачусь я у них на могилках, и, может, легче на душе станет.
Мунгаловское кладбище – на склоне крутой, в сизых каменных рассыпях сопки, к западу от поселка. Горюнятся на нем высокие и низенькие, то совсем еще новые, то серые от старости кресты. Раньше было оно огорожено бревенчатой оградой. Каждое лето выкашивали на нем старики дурную траву, украшали полевыми цветами вдовы и матери кресты на родных могилах.
Теперь ограда местами обрушилась, местами сгорела от пущенного весною пала. По всему кладбищу росла густая полынь, усеянная желтыми шариками семян. Начинающие желтеть березки тихо раскачивались и шумели у развалившихся ворот.
Авдотья Михайловна и Ганька были уже на кладбище, а внизу, в долине Драгоценки, все еще лежал молочно-белый туман. В нем тонул весь поселок. Оглянувшись, Ганька увидел словно в дыму городьбу ближайших огородов, чей-то омет прошлогодней соломы.
Пройдя по влажной от росы тропинке в дальний конец кладбища, остановились они у могилы Северьяна перед высоким с косыми перекладинами крестом. Неожиданно для Ганьки мать заголосила не своим голосом, упала на заросший богородничной травой бугорок, сотрясаясь от рыданий и нараспев причитая:
– Северьян ты мой Андреевич! Ты в сырой земле непробудно спишь! Мы пришли к тебе, твои сироты горемычные. Ты проснись, пробудись, погляди на нас, муж и батюшка! Приголубь, утешь словом ласковым, научи, как жить сыну малому, несмышленому, как жене твоей мыкать горюшко…
Сначала Ганьке показалось, что плачет мать не настоящими слезами, а только справляет положенный обряд. Ему на мгновенье стало стыдно и за себя и за нее. Он растерянно оглянулся по сторонам, чтобы убедиться – не наблюдает ли кто-нибудь за ними, но кругом стояли только одни кресты. Ганька успокоился и стал слушать жгуче-жалостливые материнские причитания. И когда понял, что мать непритворно скорбит и страдает, у него стали кривиться и подергиваться губы, во рту появилась сухая тягучая горечь. И он не вынес. Как подкошенный упал рядом с матерью, уткнулся лицом в пахучую траву…
Читать дальше





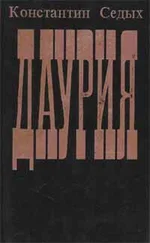
![Константин Седов - Клоуны водного цирка [СИ]](/books/408247/konstantin-sedov-klouny-vodnogo-cirka-si-thumb.webp)

![Константин Седов - Лес проснулся [СИ. Оптимизированная обложка]](/books/410923/konstantin-sedov-les-prosnulsya-si-optimizirovann-thumb.webp)

