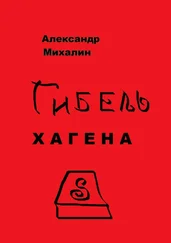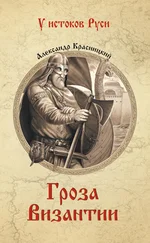Стремясь сдержать нарастающую угрозу и облегчить участь своей страны, старый дипломат приложил немало усилий для заключения Унии, объединяющей, хотя бы только на словах, католическую и православную Церкви. Атеист и прагматик, Феофан рассуждал холодно и здраво: эфемерное соглашение не в силах изменить сложившийся уклад веры в сознании людей, а папский престол ещё достаточно влиятелен, чтобы оказать помощь в трудный час.
«Уния — всего лишь выгодная сделка, — убеждал он василевса, — и греки приобретут от этого гораздо больше, чем потеряют».
Измученный болезнью и бесчисленными заботами, престарелый Иоанн VII дал своё согласие и даже сделал все от себя зависящее, чтобы план, задуманный его советником, осуществился. Однако хорошо просчитанный замысел едва не потерпел крах: внешне поддавшееся уговорам, но в глубине души настроенное резко против, константинопольское духовенство не преминуло вскинуться на дыбы. На Вселенском Соборе во Флоренции разразился скандал, когда почтенные прелаты в ходе переговоров сцепились между собой из-за схоластических противоречий и, перейдя с богословских тем на личности, громогласно понося друг друга, позабыв про сан свой и возраст, были весьма близки к рукопашной. Столь бурное обсуждение тут же стало мишенью для острот всякого рода шутников и насмешников, которые, в стремлении перещеголять друг друга, далеко разнесли молву о состоявшемся «благочинном» диспуте.
Упорство и строптивость вождя православного духовенства Марка Эфесского, для которого уступить — означало отречься, вызвало гнев василевса, и непокорный епископ просидел под замком все заключительные переговоры, которые вёл его его заклятый враг — предводитель латинофильской партии епископ Исидор. В соглашении, помимо прочего, оговаривалась военная помощь Византии, а так же готовность папского престола в случае необходимости подвигнуть народы Европы на новый крестовый поход.
И наконец, после долгих прений, в великолепном кафедральном соборе Флоренции состоялось торжественное заключение союза между римско-католической и греко-православной Церквями.
Но Уния осталась лишь на бумаге. Константинопольское духовенство отвергло подписанный договор, а Империя, в свою очередь, так и не дождалась обещанной помощи — папский престол не спешил выполнять взятые им на себя достаточно проблематичные обязательства. Византийцы в большинстве своём отвернулись от униатов — неприятие чуждой по обрядам церковной службы оказалось сильнее прагматических интересов, и Исидор, получивший от папы сан кардинала, был вынужден вернуться обратно в Рим.
Тем временем из Турции до Феофана доходили тревожные вести. Османский правитель Мурад II пришел в сильное раздражение, прознав о союзе Византии с римским духовенством. Отношения Константинополя с султанатом резко обострились. В этом отчасти была и вина византийских соглядатаев, втайне убеждающих султанское окружение в значимости этой по существу бесполезной сделки. Но гнев Мурада II пока не спешил обрушиться на маленькое непокорное государство — перед Османской империей возникли проблемы посерьёзнее.
Продвижение турецких войск на запад всколыхнуло европейские народы, попавшие под угрозу завоевания. Опасность заставила их сплотиться в военную коалицию. Руководство над спешно собранным ополчением венгров, сербов и чехов принял на себя воевода Трансильвании Янош Хуньяди. Опытный полководец, он нанёс несколько сокрушительных поражений турецким войскам и отбросил их далеко назад, освобождая захваченные территории от чужеземного ига.
Воодушевленные успехами коалиции, а также подстрекаемые византийскими эмиссарами, народы Центральной Европы и Балкан поднялись на борьбу с приверженцами ислама. С благословения папы был предпринят новый крестовый поход, в котором основным ядром на этот раз явились полки польского короля Янгелона Владислава III. Крестоносцы одержали ряд внушительных побед и не встречая сопротивления, вторглись в Болгарию. София вскоре пала, недолго удерживаемая турецким гарнизоном и войска союзников овладели большей частью Балкан.
Христианский мир ликовал. Казалось, ещё немного и власти мусульманских захватчиков в Европе придет конец. Но живучесть османского государства была беспредельной, и вместо уничтоженных армий турки быстро набирали новые, ещё более многочисленные.
Напуганный необычайным размахом освободительного движения, Мурад II за одно лето собрал огромную армию и двинул ее навстречу небольшому тридцатитысячному войску крестоносцев. Он не стремился к прямому сражению с ними. К чему лишний раз испытывать военное счастье? Не лучше ли заключить взаимовыгодный мир? Именно об этом говорили дипломатические миссии турок. И, чтобы, упаси Аллах, не уязвить самолюбия ни одного из предводителей, каждому из них, в самых изысканных выражениях, было предложено лично, от своего имени, скрепить подписями и печатями сделку.
Читать дальше
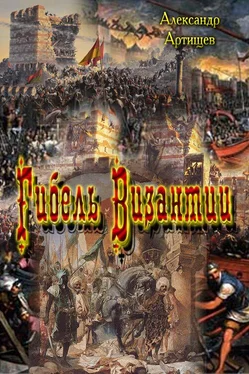
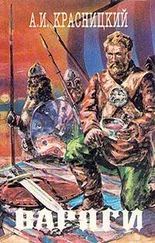

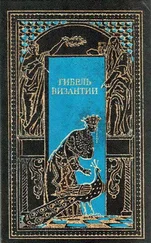
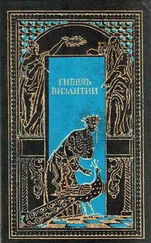
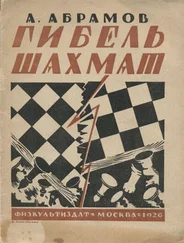


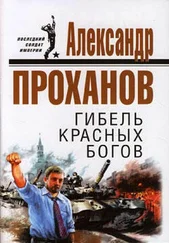
![Александр Грин - Гибель Петрограда [Фантастика Серебряного века. Том XII]](/books/422454/aleksandr-grin-gibel-petrograda-fantastika-sereb-thumb.webp)