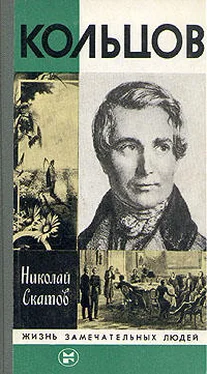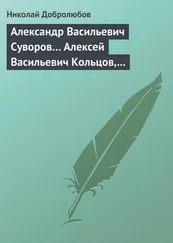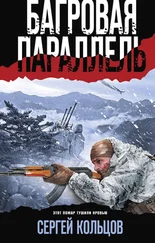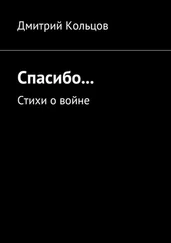Кольцов «впервой сроду» общался с князьями, и разница между общением с ним князей и обращением с ним губернских чиновников, видимо, больно била. К тому же, очевидно, с 1837 года Кольцов-старший передал почти все ведение дел, прежде всего дел бумажных, то есть долговых обязательств, контрактов, векселей, в руки сына. Естественно: тот был умен, грамотен, энергичен и, как показали столичные пребывания 1836 года, с успехом опирался на могучие протекции. Но дел этих было много, росли они как снежный ком, при многообразии операций, которые вели Кольцовы. К тому же они затеяли постройку огромного по масштабам тогдашнего Воронежа дома, который должен был и действительно вскоре после постройки стал давать существенный доход. В строительство дома тоже вкладывались большие деньги – не менее двадцати тысяч. Вовлеченные во все эти разнообразные операции, Кольцовы, будучи людьми довольно состоятельными, как правило, не имели или имели мало наличных денег: деньги пускались в оборот. Потому даже при большом кредите опасность крупного взыскания при неблагоприятном течении того или иного дела могла обернуться если и не катастрофой, то существенными неприятностями. «Дела мои в совершенном расстройстве, – сообщает Кольцов Краевскому. – После меня (то есть во время отъезда в столицы. – Н.С. ) отца моего так стеснили взысканием, что он принужден был уехать из дома и жил кой-где более месяца: и товару рогатого купил очень мало». И о том же тому же Краевскому через четыре дня: «Дела мои немножко без меня шли дурно; занимаюсь крепко ими и, бог даст, в месяц надеюсь привести их в порядок. Более расстроило их то дело, за которым я жил в Петербурге. Я вам скучал просьбою: если можно, не оставьте. Мне остается уладить во всем Воронеже с одним виц-губернатором – и все бы могло пойти хорошо; а без вас уладить с ним я не могу, потому что человек весьма дурной, который нашего брата считает ни за грош. Я с ним личности и никогда еще не имел, да бог знает, что-то он ко мне неласков».
Кольцов действительно быстро и энергично за месяц наводит в делах порядок. Уже в июле в письме, обращенном сразу к А.А. Краевскому, Я.М. Неверову и В.В. Григорьеву (петербургский знакомый Кольцова, профессор-ориенталист и цензор), он пишет: «Все хлопочу по делам торговли, которые без меня шли уж очень дурно, – а разлитую воду подбирать с земли не всякому легко. Теперь, слава богу, ход их получшел гораздо. В степи ездил только раз, и то на скорую руку, как баба поет над могилой».
После возвращения весной в Воронеж Кольцов много пишет еще в одном совершенно оригинальном литературном роде – эпистолярном. Мы обычно думаем только о Кольцове-песеннике, Кольцове-поэте. Между тем он автор таких писем, которые составляют как бы единую литературную повесть. Кольцов начинает писать письма в 1836 году, во всяком случае, нам известны письма в основном от этого времени.
Конечно, их появление объясняется житейски: установились связи с москвичами и петербуржцами. Но того, что собой представляют письма Кольцова, житейски уже не объяснишь. «Проза со мною еще при рождении разошлась самым неблагородным образом». Это Кольцов пишет Белинскому, оправдываясь по поводу своего «дурного» письма от 3 марта 1836 года. К этому времени, после знакомства, состоявшегося еще в 1831 году, наметилось их сближение («Вы меня приняли довольно ласково; и мне из-за вас Москва показалась гораздо теплее, нежели была прежде»). Тем не менее обращение к Белинскому еще выдержано в своеобразной манере провинциальной куртуазности: «Любезнейший Виссарион Григорьевич! Позвольте вам из Петербурга засвидетельствовать почтение. Я знаю, нынче это не в моде; но я ничего не имею более, как только одно лишь это: почитать людей, которых я душою почитаю». В общем, по гоголевскому слову, – уважение и преданность, преданность и уважение.
Кольцов в первых письмах еще как бы нащупывает свой стиль, который в конце концов оказался очень своеобразным. Позднее, цитируя в статье о Кольцове одно из писем поэта, Белинский отметил: «В этом письме весь Кольцов. Так писал он всегда и почти так говорил. Речь его была всегда несколько вычурна, язык не отличался определенностью, но зато поражал какою-то наивностью и оригинальностью». С тем большим основанием можно было бы теперь сказать, что во всех своих письмах раскрывается «весь» Кольцов.
Называя переписку Кольцова с Белинским истинно драгоценной, Некрасов в 1848 году определяет ее как любопытнейший памятник рукописной пашей словесности (курсив мой. – Н.С. ).
Читать дальше