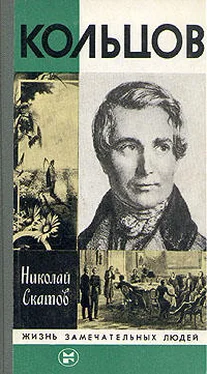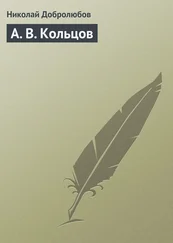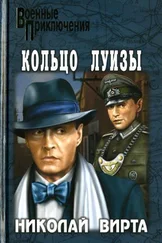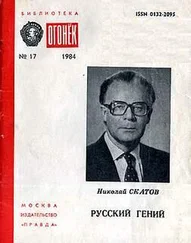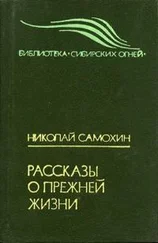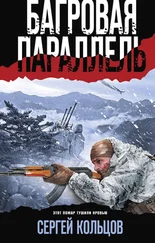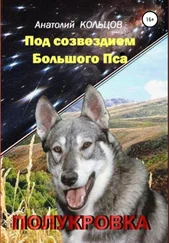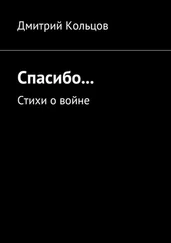Кольцов улыбнулся.
– Да ведь на меня, Иван Иваныч, – возразил он, – человека необразованного, иначе и не могут смотреть образованные люди: я это очень хорошо понимаю; но вы ведь меня но принимаете за дурачка, а они на меня совсем как на дурачка смотрят: вот хоть бы Евгений Павлыч Гребенка. Впрочем, я это так только заметил: все здешние литераторы и Евгений Павлыч – люди очень добрые и почтенные… Вот хоть бы князь Одоевский, он такой приветливый, он так меня обласкал, а впрочем, московский кружок – то есть я разумею кружок Белинского – все-таки нельзя сравнить с здешними… Я откровенно вам скажу, только и отдыхаю там от разных своих забот и неприятностей… У этих людей есть чему поучиться».
Последняя часть диалога показывает, что Панаева, человека доброго, но несколько легкомысленного, Кольцов тоже видел «насквозь», и, наверное, потому же прорвавшуюся откровенность снял общей и ничего не значащей фразой: «Все здешние литераторы и Евгений Павлыч – люди очень добрые и почтенные», закрыл штампом. Но все же не удержался и решительно противопоставил петербуржцам москвичей. Характерно, что московский кружок назван не кружком Станкевича, а кружком Белинского: «У этих людей есть чему поучиться». Один громадный урок, впрочем, Кольцов получил и в Петербурге. Но об этом ниже.
В беседе с Панаевым он недаром выделил В.Ф. Одоевского. В столицу Кольцов приехал отнюдь не для того только, чтобы посещать вечера, приниматься литераторами и принимать их у себя. А он устраивал такие приемы. Панаев вспоминает, что «почти всякий свой приезд в Петербург Кольцов созывал к себе литераторов на угощение и между прочим потчевал их какой-то соленой рыбой, которую он привозил из Воронежа». Естественно, что созывались на эти угощения не такие литераторы, как князь П.А. Вяземский, князь В.Ф. Одоевский и генерал В.А. Жуковский, хотя их Кольцов узнал тоже в первый свой приезд. И для него очень большое значение имело не только то, что Вяземский, Одоевский, Жуковский были литераторы, но и то, что это были князья и генералы, – и совсем не только в литературе.
В круг этих людей ввел Кольцова Андрей Александрович Краевский – деятель в истории русской журналистики очень примечательный, тогда начинавший. Он служил в том же «Журнале министерства народного просвещения», что и Неверов – первый биограф Кольцова. Краевский стал тогда одним из наиболее близких воронежскому поэту петербургских литераторов и немало сделал для него доброго, хотя и в сфере главным образом нелитературной. Что свело их вместе?
Краевский не был даже мало-мальски крупным писателем: несколько маловажных литературно-критических и публицистико-исторических работ – по сути, все. Но многие значительные издательские предприятия, будь то «Современник» или «Отечественные записки», не обошлись без Андрея Краевского. Энергичный делец Краевский эволюционировал и в своих взглядах вправо, подчиняясь общей обстановке, особенно после 1848 года. Но в 30-е годы он очень тянулся к пушкинскому кругу, и именно он приобщил к нему Кольцова. Вряд ли бы Краевский с успехом вел свои журнальные, а с 60-х годов и газетные дела, если бы, кроме деловой хватки, которая наконец закрепила за ним не очень добрую славу журнального эксплуататора, не имел особого чутья на конъюнктуру и на литературные дарования. В конце концов, ведь это он со своими «Отечественными записками» ввел в литературу Лермонтова, с которым всегда был довольно дружен. Это он пригласил Белинского в те же «Отечественные записки» и предоставил ему быть в них полновластным хозяином, оставив за собой, конечно, хозяйское право на полноценный доход от прославленного критиком журнала.
Очевидно, тот же нюх начинающего большого литературного дельца на большой начинающий литературный талант позволил ему оценить Кольцова раньше многих писателей, критиков и поэтов и отнестись к нему внимательно и доброжелательно. Кольцов, естественно, испытывал к Краевскому благодарность и доверие особого рода. В свою очередь, Кольцов быстро понял и оценил Краевского – умного литератора и журналиста, как тогда называли редакторов и издателей, а Краевский уже с 1837 года редактировал «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“.
Кольцов сам был человек деловой и практический, и вот этой своей стороной он прежде всего и повернулся к Краевскому. Отношения установились прочные и надолго, а переписка продолжалась почти до самой смерти поэта. Правда, в первых письмах Кольцов обращается к нему в выспреннем стиле, в котором он часто обращался к тем, кого почитал, сильными мира сего, а о себе говорит в манере нарочито уничижительной. «Добрый и любезный Андрей Александрович! – пишет он Краевскому в ноябре 1836 года, то есть в первый год знакомства. – Давным-давно ко мне вы ни полслова. Бывало, не вы, так Януарий Михайлович (Неверов. – Н.С. ) кое-когда посещал торгаша-горемыку. Конечно, всегда вы заняты, всегда дела. Да, вы небом избранные жрецы священнодействовать у алтаря высокого искусства». Тем не менее вскоре, уже в начале 1837 года, Кольцов не только пишет о «дурных обстоятельствах нашей коммерции», но и подробно сообщает избранному священнодействовать у алтаря жрецу, в чем эти обстоятельства состоят: «Дела торговли все худшают. Скотом прошедший год торговали дурно. Сало продали И р. 25 к. за пуд, кожу бычью – 13 р., говядину обрезную продаем 2 р. 50 к. и 2 р. и 1 р. 50 к. за пуд. Дровами торговля посредственная. Хлеб у нас: мука ржаная 3 р. 50 к. четверть, овса 1 р. 80 к. четверть, пшено 1 р. 40 к. мера, крупа 80 к. мера, гречиха 3 р. четверть, пшеница 8 р. 50 к. и до 10 р. четверть».
Читать дальше