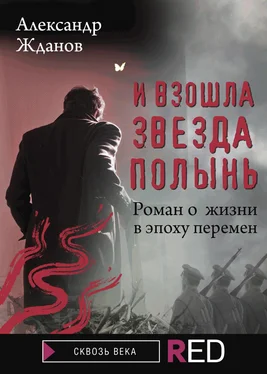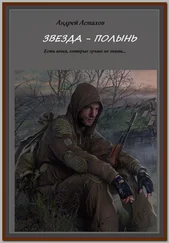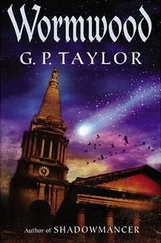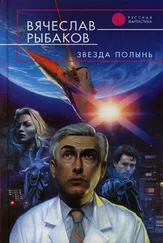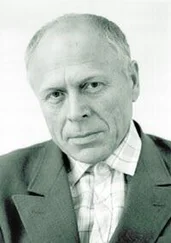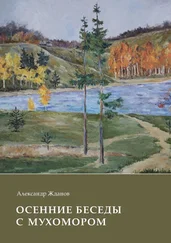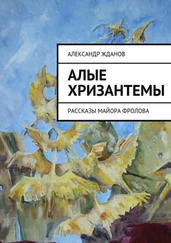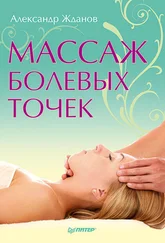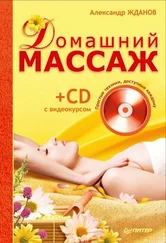Животных Радиковский жалел всегда, лошадей же жалел особенно. В Петрограде он видел, как их загоняли в тесные вагоны с небольшими оконцами вверху. Лошади нервно поводили головами, косили глазами и тревожно ржали. Словно ведали, что везут их в Пруссию на гибель. Вот помчится конь сквозь дым и свист пуль, повинуясь наезднику, и примет свинец в грудь первым.
Так и случилось, что первым впечатлением тогда ещё только вольноопределяющегося Радиковского на войне стала гибель лошадей. Под Каушеном барон Врангель повёл в атаку полуэскадрон. Атака была столь решительной и неожиданной для противника, что немцы открыли огонь, не успев поднять прицел, и в полуэскадроне пострадали в первую очередь лошади. Прямым попаданием картечи убило лошадь и под самим бароном. И людские потери были велики. Но Радиковскому запомнился конь незнакомого ему ещё поручика. Разрывом коню перебило ноги, вспороло живот. Падая, конь увлёк за собой всадника и придавил ему ногу. С трудом поручику удалось выбраться, для чего пришлось разрезать ремни. Хромая, поручик обошёл лежавшего на земле своего коня. Тот уже почти не бился, только тяжело дышал и преданно и с мольбою во взгляде смотрел на своего хозяина. Он склонился над конём, ласково потрепал его по шее, затем быстро вставил в ухо ствол револьвера, отвернулся, зажмурился и выстрелил. Потекла тёмная, почти чёрная кровь. Поручик, не оборачиваясь, убирал на ходу револьвер в кобуру… Радиковский стоял, потрясённый.
Нужна ли была столь яростная атака, в результате которой захватили-таки два особенно досаждавших немецких орудия? Нужна ли была атака, успех которой был оплачен гибелью почти всего полуэскадрона? Не лучше ли было вообще не спешить, не ввязываться сразу в боевые действия, а дождаться полного сосредоточения наших войск у границы, дождаться, когда завершена будет мобилизация, когда, наконец, подтянутся обозы? Радиковский задавал себе эти вопросы, но он уже и начинал понимать, что штурмы, атаки, и всё, что происходит на войне, случается не сами по себе, что они лишь часть больших сдвигов и передвижений.
Наверное, лучше было бы выждать, не вступать до времени в войну, но французы запросили помощи. Далеко в Европе, на Западном фронте, французская армия оказалась на грани разгрома, и была бы разгромлена. Но со стороны противоположной границы пришла помощь: спасая союзника, русские войска перешли границу Восточной Пруссии.
Продвигаясь вдоль железной дороги к Гумбинену, Первая русская армия генерала Ранненкампфа уже на следующий день встретилась у Шталупенена с немецкими силами. К концу дня немцы отступили. Ранненкампф предвидел скорое встречное сражение и посему стремился развернуть две пехотные дивизии для последующего охвата левого фланга противника. Предписав коннице Хана Нахичеванского двигаться через Каушен на Инстербург, Ранненкампф решил дать войскам днёвку – суточный отдых перед неминуемым сражением. Но у Хана Нахичеванского, по-видимому, были свои представления о субординации и необходимости исполнения приказов. Он отвёл конницу в тыл и не сдвинулся с места даже в разгар боя. Правый фланг русской армии оказался открытым. Именно здесь, на правом фланге, бой оказался исключительно кровопролитным.
Всего в версте от русских батарей проходило шоссе. По нему и двигались немецкие силы. С одной стороны, это облегчало их продвижение, с другой же, делало их почти открытой мишенью. Тем не менее, немцы обрушили на русские позиции мощный огонь – артиллерийский, пулемётный, даже аэроплан пролетел над батареями, сбрасывая бомбы. Редким огнём отвечали русские батареи, ибо снарядов не хватало.
Но кто может с точностью рассчитать наперёд военное счастье?! Хоть на правом фланге успех немцев был несомненен, на левом же две пехотные дивизии Третьего корпуса генерала Епанчина не только выдержали наступление, но и сумели перейти в контратаку. И немецкий правый фланг корпуса генерала Франсуа начал беспорядочное отступление.
Так в августе армия генерала Ренненкампфа под Гумбинненом нанесла поражение германским войскам. Германцы отступили и уже собирались оставить провинцию. А в Тильзит почти в то же время бескровно вошёл 270-й Гатчинский пехотный полк. И было бы, наверное, дальше неплохо: укрепились бы на занятых позициях, завершили бы мобилизацию, подтянулись бы резервы. Тут приоткрылась Радиковскому скрытая от него прежде сторона войны: не всё, что может показаться удачей, ею является. Быстрый, внезапный прорыв, то, что обычно ценится, на деле принёс не удачу, а затруднения. Любой прорыв, любой успех хороши, когда их можно закрепить. А вот этого-то и не получилось. Мобилизация в стране ещё продолжалась, сил не хватало, резервы и обозы растянулись, снабжение не поспевало.
Читать дальше