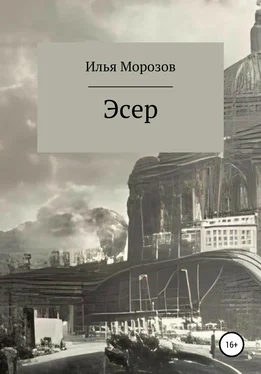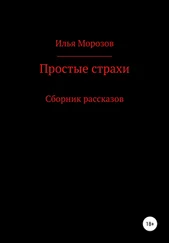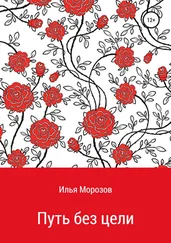Топорище сломалось пополам, а чурка так и не раскололась.
– Ох, пропадёт, – отец смотрел на Буяна, словно в первый раз его видел. – Пропадёт твоя буйна голова.
– Пропадёт, – говорил он. – Твоя буйна голова.
Под конец века больше одиннадцати миллионов сельских жителей перебрались в город. Произошло это за неполных два десятилетия. В большинстве своём это были молодые люди, мужики. Они побросали свои так и невыкупленные земли, косые хаты, жён, детей, божьи образа. Перекололи скотину. Это было подобно новому Великому переселению народов. Люди искали в городе еды и работы, но не находили там ни первого, ни второго. Столица закипала, как котелок с которого не сняли крышку. Этот кипяток должен был разлиться по брусчатке.
Крошечным камушком в той огромной лавине переселенцев был и Буян.
Дожив до четверти века, Буян полностью оправдывал своё имя. Он вымахал до двух метров без полпяди, и раздался до косой сажени в плечах. Лицо его обросло густой чёрной бородой, такой же черный был и волос на голове, который он почти никогда не стриг. Маленькие, как болотная черника, глаза стреляли из-под тяжёлого низкого лба.
Отца не стало, когда Буяну только-только исполнилось двадцать, и он остался совсем один. Семья Кулаковых не была плодовитой: все его братья и сёстры умерли во младенчестве. Всем погост да грай ворон. Сам Буян не женился. Конечно, водил девок на сеновал, но до свадьбы не дошло. И как не надрывал живота Буян, сохранить хозяйство ему не удалось. Сперва продал коня, потом корову.
И вот однажды ночью, в мае он собрал остатки сбережений, краюху хлеба в котомку за плечо, посидел на отцовской кровати, поджёг усадьбу Николай Николаевича и ушёл, куда глаза глядят. Хотел и свою хату поджечь, но пожалел. Авось, кому пригодится ещё.
До ближайшей железнодорожной станции в Канске (почти семьдесят вёрст) дошёл пешком за одну ночь и за один день. Там тайком в угольном вагоне до Красноярска. Оттуда уже по новой транссибирской магистрали так же грузовыми эшелонами мимо Томска до Новониколаевского, потом Омск. Дышал под пологом приторным запахом каменного угля. И в один момент Буян будто даже почувствовал родство с этим углём: такой же чёрный, такой же неживой, но с обжигающим жаром где-то глубоко внутри. Надолго эти камни и эта пыль стали для него постелью, он разлёгся на них и пустил себя по рельсовому течению – вези паровоз, куда привезёшь.
Нигде он не мог остановиться, будто гнала его прочь родная земля, будто дышали в спину мертвецы. Будто проклинали в спину попы и барьё. Где бы он ни был, ему всё хотелось уйти дальше. За Омском Тюмень, потом Екатеринбург, Пермь, Хлынов, Ярославль. А оттуда и до Санкт-Петербурга доплюнуть можно.
Петербург принял Буяна к августу так же, как всех: холодно, сыро с подчёркнутым равнодушием. Даже с безразличием. Городу было всё равно на какого-то там Буяна, он его и не заметил. Разве пёс будет разглядывать каждую новую блоху, что принимается его грызть?
В то время в городе было непросто с жильём. На первых порах Буян на оставшиеся скромные деньги сумел арендовать койку в коридоре одного из домов в Вяземской лавре. Это одна из самых страшных трущоб города, населенная сплошь ворами и нищетой. Дорогие кареты сюда не заезжали, а городовые не захаживали. Когда деньги закончились, хозяйка по договорённости переселила его на койку в подвале того же дома, где вместе с ним проживали ещё в разное время от десяти и больше семей. Там было сыро и душно без окон. Кусали клопы. Селить людей в подвалах было нельзя по закону, но все это делали. Хозяйка разглядела в Буяне недюжинную рабочую силу, и он за эту койку колол дрова и носил ей воду. С соседями не общался, да и вообще приходил туда только переночевать. Маленькие дети плакали, спалось Буяну плохо и мало.
Самое популярное место обитания петербургских бедняков – это Сенная площадь. К Сенной площади выходила дорога, по которой купцы ехали в Санкт-Петербург, здесь они останавливались и торговали. Торговали всем подряд прямо с телег, с возов. Со временем тут образовался самый дешёвый рынок, на котором крестьяне могли продавать хлеб, яйца, сметану, не оплатив за право торговли.
Сюда же приходили и всевозможные разнорабочие. Кусочком мела они писали на подошве сапога цифру «1» или «2» и садились прямо на неровную брусчатку, вытянув ноги. Цифра означала сумму, которую они просили за рабочий день. Тогда к ним подходил какой-нибудь купец или старик-крестьянин и нанимал их разгрузить товар или что-то куда-то отнести.
Читать дальше