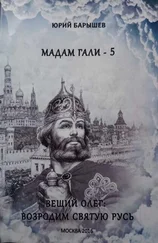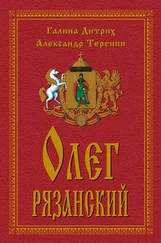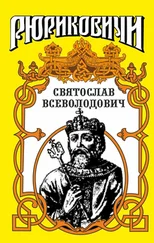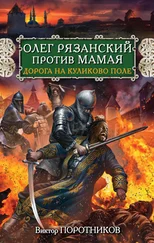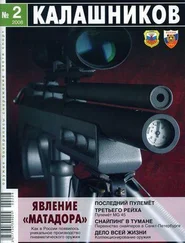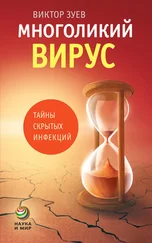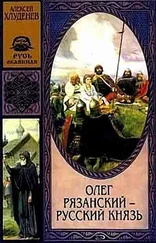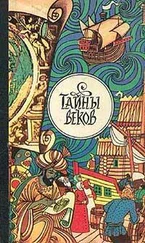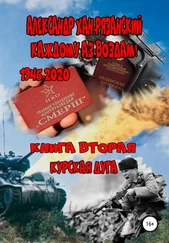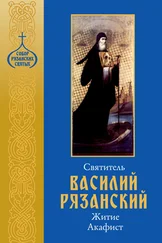Трое подростков лет двенадцати-тринадцати, сгрудившихся на смотровой площадке затейливой сторожевой башенки княжеского терема, прильнули к перилам.
Отсюда, с самой высокой точки детинца, открывался дивный вид на стольный город рязанских князей, Переяславль Рязанский [1] После нашествия хана Батыя в 1237 году, когда город Рязань был уничтожен, столицу перенесли в Переяславль Рязанский, который в 1778 году был переименован в Рязань. На месте разрушенной столицы до сих пор сохранилось городище под названием Старая Рязань.
, утопающий в молодой весенней зелена заокские дали, подернутые дымкой утреннего тумана, и на синеющие у самого окоёма непроходимые, бескрайние леса.
Но мальчиков волновала не красота утреннего города. Они не сводили глаз с дороги, ведущей к воротам детинца.
— А вон и ещё один! — вновь сообщил синеглазый Васята товарищам, словно они и сами не видели подъезжающего к воротам боярина с дружинниками и холопами.
— Воевода Дебрянич, — сказал второй мальчик, русоголовый, с выцветшими вихрами над высоким лбом, кареглазый и чернобровый. Звали его причудливо — Епифан, да только ещё в раннем детстве друзья переиначили трудное имя в простое — Епишка. Он оглянулся на молчавшего Олега. Тот был повыше ростом, такой же русоголовый, в такой же льняной рубашке, что и Васята с Епишкой, отличали его лишь строгие зелёные глаза под разлетающимися не по-мальчишески густыми бровями. Видно, хоть и мальчик, но уже князь!
— И ещё двое едут! — продолжил Васята. — Почитай, вся дума собралась.
— То-то и оно, что вся дума. А меня не оповестили, — заметил Олег ломким голосом. — Сбегай-ка, взгляни, где собираются бояре. Уж не в думной ли палате?
— Почему чуть что — я? — недовольно спросил Васята. — Пусть Епишка сбегает. У него отец дворский, ему сподручнее.
— И вправду, сходи ты, Епишка, — согласился Олег.
На этот раз повеление юного князя звучало просительно. С Епишкой у него сложились странные отношения: верховодил один — князь, а придумывал затеи другой.
Епишка отлепился от перил и, бросив последний взгляд на опустевшую дорогу, побежал вниз, по извилистым лесенкам и переходам, ведущим к большой думной палате.
Олег, прижавшись спиной к бревенчатой стене башенки, задумался.
Совсем недавно, ранней весной 1350 года, после смерти отца, князя Ивана Александровича Рязанского, человека тихого, мирного, он был торжественно, под звон колоколов и при великом стечении народа возведён на отчий великокняжеский стол [2] Стол — престол. Отсюда — столица.
. В полном согласии с предсмертной волей отца. И все удельные князья, великие бояре, ближние бояре, городские бояре, дружинники целовали крест на верность.
По малолетству Олега бразды правления должна была бы взять в свои руки его мать, княгиня Евдокия. Но не взяла, вернее, не сумела — по слабости характера и приверженности к долгим поездкам на богомолье по святым местам, которых было много не только в Рязанской земле, но и в других землях Северной Руси.
Известный ещё древним феномен: власть долго не может оставаться ничьей, — подтвердил себя и на этот раз. Власть в княжестве оказалась в руках нескольких великих бояр во главе с тысяцким Микуличем и дворским Коревым.
Сразу после смерти отца Олег об этом не задумывался — всё время проводил с двумя друзьями детства, постепенно изживая великое горе утраты. Учился, постигал воинское умение на бронном дворе, ездил на рыбалку — и ночью с острогой, и днём с бреднем.
Но тут в соседней Москве умер великий князь Симеон Гордый. Рязанцы, воспользовавшись удобным случаем, захватили московский городок Лопасню, когда-то принадлежавший Рязани, а наместника московского пленили. Правда, его скоро выпустили за солидный выкуп, но городок держали крепко. Впрочем, Москве было не до пограничных дел. На престол сел брат Симеона, Иван Иванович, по прозвищу Кроткий. По заведённому ещё с Батыевых времён порядку надлежало ему теперь ехать в Сарай, столицу Золотой Орды, за ярлыком на великое княжение. И тут вся разросшаяся семья Залесских Рюриковичей вдруг заволновалась: по сложным и запутанным расчётам права на великий престол были не только у Ивана, но и у многих других князей — суздальских, владимирских, даже нижегородских. Ибо лествичные расклады были запутаны, а спрямить их могло лишь серебро, умело розданное в Золотой Орде.
Обгоняя Ивана Ивановича, суздальский князь первым ринулся в Сарай на поклон к хану Джанибеку.
Читать дальше