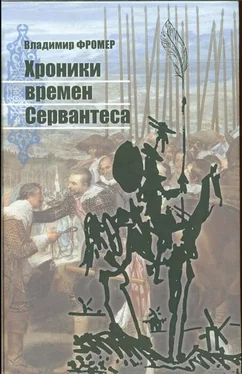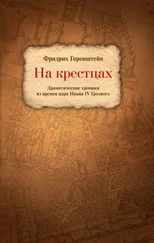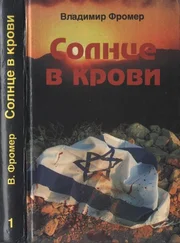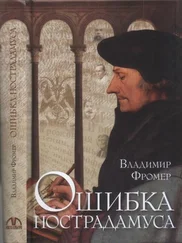Тогда губернатор спросил заимодавца, что тот имеет возразить противной стороне, а заимодавец сказал, что должник, вне всякого сомнения, говорит правду, ибо он, заимодавец, почитает его за человека порядочного и за доброго христианина, что, по-видимому, он запамятовал, когда и как тот возвратил ему десять эскудо, и что больше он у него их не потребует. Должник взял свой посох и, отвесив поклон, направился к выходу. Тогда Санчо, видя, что должник, как ни в чем не бывало, удаляется, а истец покорно на это смотрит, приставив указательный палец к бровям и переносице, погрузился в раздумье, но очень скоро поднял голову и велел вернуть старика с посохом, который уже успел выйти из судебной палаты. Старика привели. Санчо же, увидев его, сказал:
— Дай-ка мне, добрый человек, твой посох, он мне нужен.
— С великим удовольствием, — сказал старик, — возьмите, сеньор.
И он отдал ему посох. Санчо взял посох, передал его другому старику и сказал:
— Ступай с Богом, тебе заплачено.
— Как так, сеньор? — спросил старик. — Разве эта палка стоит десять золотых?
— Стоит, — отвечал губернатор, — а если не стоит, значит, глупее меня никого на свете нет. Сейчас вы увидите, гожусь я управлять королевством или нет.
И тут он велел на глазах у всех сломать посох. Сказано — сделано, а внутри оказалось десять золотых. Все пришли в изумление и признали губернатора за новоявленного Соломона. Санчо спросили, как он догадался, что десять эскудо спрятаны в этой палке. Он ответил так: видя, что старик, коему надлежало принести присягу, дал подержать посох истцу, а поклявшись, что воистину и взаправду возвратил долг, снова взял посох, он, Санчо, заподозрил, что взыскиваемый долг находится внутри этой палки. Отсюда, мол, следствие, что сколько бы правители сами по себе ни были бестолковы, однако вершить суд помогает им, видно, никто, как Бог…
А вот как эта же история, известная как «посох Рабы», изложена в Вавилонском Талмуде. Рав Аба бар Нахмани (Раба), возглавлявший иешиву в Пумбедите в Персии в начале IV века новой эры, считается одним из создателей Талмуда. Ученики называли его «колебателем гор», настолько острым и неожиданным был его подход к решению любой проблемы. И вот что однажды с ним приключилось: «Заимодавец предстал перед Рабой с просьбой о помощи. Заимодавец сказал должнику: „Заплати мне!“ Должник ответил: „Я заплатил ему!“ Раба сказал должнику: „Если это так, то пойди и поклянись, что ты уже заплатил ему“. Он пошел и принес посох, в который засунул деньги. Опираясь на него, появился в суде и сказал заимодавцу: „Подержи посох в своей руке“. Потом взял свиток Торы и поклялся, что он выплатил заимодавцу весь долг. В гневе заимодавец сломал посох, и монеты посыпались на землю. Так оказалось, что должник говорил под присягой правду».
Несмотря на ряд различий, идентичность этих историй очевидна. Возникает вопрос: не связан ли интерес Сервантеса к Библии и Талмуду с его происхождением от марранов по материнской линии? Большинство исследователей это категорически отрицают, ссылаясь на то, что еврейская тема почти отсутствует в творчестве писателя. Появляется она лишь на закате жизни Сервантеса, в последних его произведениях. Вот какой монолог автор вкладывает в уста одного из героев пьесы «Великая султанша госпожа Каталина де Овьедо»: «О всеразрушающая нация! О бесчестные! О противная раса, до какой низости довели вас ваши пустые надежды, ваше безумие и несравненное упрямство. Вы, вызывающие жестокость и закоснелость вопреки доводам справедливости и разума».
Это вроде бы явное свидетельство враждебного отношения Сервантеса к евреям. Но мы ведь знаем, что демонстративный антисемитизм нельзя расценивать как доказательство отсутствия в жилах еврейской крови. Ненависть к своему происхождению и, как следствие, к своему племени среди евреев, в особенности среди крещеных евреев, отнюдь не редкость на протяжении всей еврейской истории. Возможно, что в конце жизни Сервантесу, добившемуся с огромным трудом всенародной славы, захотелось полностью идентифицировать себя с испанским национальным духом, в котором враждебное отношение к гонимому племени занимает далеко не последнее место.
* * *
В 1614 году литературные враги Сервантеса нанесли хорошо рассчитанный удар, поразивший его в самое сердце.
В Мадриде вышло в свет сочинение под названием: «Вторая часть изобретательного идальго Дон Кихота Ламанчского, содержащая рассказ о его третьем выезде и пятую книгу его приключений» . При беглом взгляде эту книгу можно было принять за сочинение Сервантеса, если бы внизу не значилось мелким шрифтом: «Сочинено лиценциатом Алонсо Фернандес де Авеллянеда, уроженцем города Тордесильяс. Напечатано Филиппе Роберто. 1614 год» .
Читать дальше