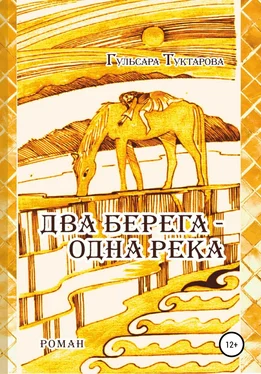Станица Крутой Яр кормилась Волгой. Жили здесь казаки, считались на государевой службе. Давно беглые лихие люди облюбовали высокий берег для временного пристанища, да обжились. Тайком пробираясь в родные сёла, приводили жён да невест. Оглядываясь, осторожничая, сначала чувствовали себя гостями на богатой земле. Да и время такое – вокруг татарва, чуть ли не страшнее басурман свои – злыдни-хозяева да царёвы приспешники, лютующие по городам и сёлам. Не от хорошей жизни бросались в бега землепашцы. Стали «ловцами», вольными рыбаками. Забегали детки, заровнялась улица между плетнями, многолетней чешуей покрылся берег, капустные ряды тянулись по задам дворов. По весне сады наливались цветом, а потом вплоть до холодов радовали детвору сочными плодами. Хлеба сеяли мало, не родился он тут, приспособились выменивать на красную рыбу в других городищах. Но опасно было пускаться в дальнюю дорогу, поэтому часто сидели без хлеба, на одной рыбе. Но тут разыскали их царские слуги, гнать не стали, обещали хлеба за службу. Приехал есаул, поставили ему избу. Надо было следить за татарами, по надобности идти в поход на них. Так вольница стала станицей.
Кое-где сохранились времянки – обмазанные глиной стены из плетня, наполовину врытые в землю, с плоской крышей. Теперь туда загоняют на отёл коров или держат птицу, а дома уже строят высокие, деревянные, с печью. Леса своего строевого нет, срубы по реке сплавляют от верха, возни много, но какие избы встали улицей!
Старожилы вспоминали мор, когда слегли и не встали малые, в каждой семье оплакивали детей. Вспоминали лютую зиму, когда спаслись, набившись в избы по несколько семей, под горою снега, рассказывали, как прорывали ходы, чтобы выйти к реке и за дровами в лесок. А как заводили коров, лелея каждого телёнка пуще, чем собственное дитя! Это сейчас спокойно пасётся целое стадо круторогих ведерниц, а тогда носили траву в дерюге, боялись, что волки задерут, или убежит неразумная скотина. Лошадей добыли скоро, говорят старики, иногда пробегали целые табуны, лишившиеся в боях хозяев. Их выслеживали, устраивали загоны, заново приручали к седлу или к телеге. Позже заблеяли овцы, тоже добыча ночных походов. Несколько кур и петушок, кем-то принесенные из первых поселенцев, дали потомство, сегодня уже неисчислимое: в каждом дворе кудахтали и копошились глупые птицы. А вот гуси, по решению общины, привезённые из соседнего городка в обмен на краснорыбицу, не прижились, хотя река была рядом.
Пока Пётр отсиживался в бане (Марья знала все повадки мужа), та решала, что делать с найдёнышем. Несдержанная порой до грубости, Марья быстро вспыхивала, недаром её за глаза называли кипятком, за словом в карман никогда не лезла. Притихшая свекровь завозилась в углу:
– Живая? Помрёт, и в землю не закопаешь, у них, говорят, в степи бросают…
– Накаркаете! – Но страх перекрыл гнев, и женщина осторожно подошла к девочке, наклонилась и облегченно вздохнула. – Дышит!
Марья, если принимала какое-то решение, то действовала мгновенно. И тут она рванулась к корчажке с водой, не думая, плеснула в лицо басурманке. Та сразу встрепенулась, закрылась рукавом.
– Вот и умылась с дороги! – ловкими руками Марья приподняла девочку, усаживая её на лавку. Увидев потрескавшиеся губы, опухшее лицо, задохнулась от острой жалости: дитё малое, хоть басурманское, обожжённое солнцем.
– На те водицу, попей… Пей! – ткнула корчажку к губам. Благодарно блеснули глаза на грязном лице. Вода потекла по подбородку – девочка даже глотнуть даже не смогла. Мария забрала посуду назад, бросила в сердцах обратно в деревянное ведро. Помыть бы, вся в песке, да боязно – тело горит, пышет жаром. Всё ж стала раздевать, прикрикнула на старуху:
– Да помогите же! Не видите, не управляюсь.
Стали в четыре руки разбирать одёжку. Сначала сняли все золото. Дивились красоте украшений: узорное, с переплетениями, особенно удивительными были тяжелые браслеты с рук. Бабка завязала богатство в платок, сунула узелок снохе, словно страшась такого богатства. А той, что золото, что камушек, лишь бы с глаз долой, сунула узелок в запечье.
– Портки какие, шелковые да в полосочку, – удивлялась старуха. Сняли безрукавку, тяжелую от всяких золотых и серебряных украшений по краям. С платьем повозились, девочка ныла от каждого прикосновения. Но сняли и платье, под ним было исподнее, вроде рубахи, серое, тонкого полотна.
– А говорили, как нелюди ходють, не моются и белье не носят, а тут тельце белое, худущая!
Читать дальше