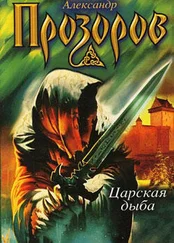Что же, давайте разберемся.
Во-первых, традиции знатных семей требуют от мужчин жениться на непорочных девах. Это правило носит не столько морально-этический характер, сколько сугубо прагматический: мужчина желает иметь гарантию того, что родившийся от брака ребенок будет потомком именно его, а не кого-то другого. Женщина-вдова, ранее разделявшая ложе с кем-то другим, подобных гарантий предоставить не способна.
Никаких иных сакрально-религиозных ограничений на браки со вдовами на Руси не накладывается, обществом они никак и никогда не осуждались. Если мужчина доверяет женщине, то имеет полное право жениться на вдове, это его личное дело.
Однако одно дело – собственный выбор мужчины, и совсем другое – если его к подобному браку принуждают. Заставить князя жениться на женщине, уже давно утратившей «непорочность», – это серьезное унижение и оскорбление. Поступить так с человеком, которого предполагается возвести на престол, есть деяние откровенно странное, если не сказать – безумное.
Во-вторых, женщина на Руси никогда не считалась неразумным животным, разновидностью движимого имущества, как это принято в исламских и западноевропейских традициях. На Руси вдова является полновластной хозяйкой унаследованного имущества, «юрлицом», имеющим право заключать сделки, покупать и продавать, дарить и оставлять наследство. Она не только не обязана подчиняться другим мужчинам даже своей семьи, но и сама обладает некоторой судебной властью, имея право решать имущественные споры между своими детьми. Если где-то кто-то пожелает выдать вдову замуж против ее воли – женщина очень быстро отправит подобного «умника» по нехорошему адресу. Пусть даже это будет сам государь всея Руси.
В-третьих, идея, что человеку можно приказать изменить веру, относится к области откровенного атеистического бреда. Вера подданных земным правителям неподвластна; за свою веру люди идут на костер, на смерть, на муку. А могут просто на вилы поднять – и такое нередко случается.
И наконец, в-четвертых, если предположить, что царь всея Руси смог некими посулами уговорить второе по знатности лицо государства отказаться от ислама и принять православие, то таковое таинство, понятно, будет происходить с подобающей торжественностью и в каком-то из главных соборов страны: Успенском, Благовещенском, Архангельском. Но уж никак не в придорожной церквушке глухоманной деревеньки!
Когда человек принимает крещение в некой затрапезной церквушке – это значит, что он следует некоему нестерпимому внутреннему порыву, требующему сотворить все немедленно и на месте, а не совершает общегосударственный политический акт.
Согласно писцовым материалам Тверского уезда XVI века, деревня Кушалино как минимум в 1554–1576 годах (прочие документы утеряны) принадлежала князю Ивану Федоровичу Мстиславскому. Это значит, что касимовский царь не поленился приехать за три сотни верст во владения семьи княгини Анастасии, встретился там с женщиной и прямо на месте, явно засмотревшись в голубые глазки, внезапно решил отречься от мусульманской веры и принять православие, после чего немедленно женился на вдове Черкасской. Между прочим, отказ от ислама, который препятствовал этому браку, одновременно означал утрату прав на касимовское царство и на царский (ханский) титул. Разве можно дать этому поступку хоть какое-то иное вразумительное объяснение, кроме сильнейшей любви хана Саин-Булата к Анастасии? Никакого влияния Ивана IV на данные события – ни прямого, ни косвенного – никак не просматривается. Слишком уж скромно и келейно, далеко от столиц, царского двора и самого правителя свершались эти события.
Любовь зла, Саин-Булат стал не первым и не последним мужчиной, отказавшимся от короны ради женщины. Правда, ему, в отличие от всех прочих, судьба подкинула второй шанс – Иван IV уступил новокрещенному царю Симеону свой трон.
Как ни странно, но об этом событии мы знаем только по косвенным признакам, и точные даты правления Симеона неизвестны. Надежно датированных документов нет, летописи дают разброс от 1574 года во «Временнике» и до 1576 года в «Новгородском летописце» (по понятным причинам для романа автор выбрал даты, наиболее удобные по сюжету). Однако обилие косвенных документов (письма послов, жалованные, ввозные и указные грамоты, письма Грозного, воспоминания свидетелей) надежно доказывают факт воцарения главного героя, случившийся вскоре после крещения Саин-Булата.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
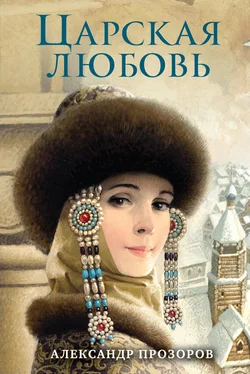


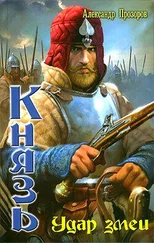
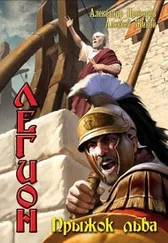
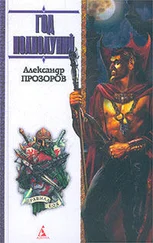
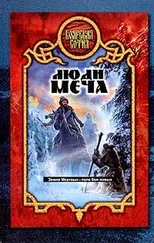
![Александр Прозоров - Царская дыба [= Государева дыба]](/books/332882/aleksandr-prozorov-carskaya-dyba-gosudareva-dyba-thumb.webp)


![Александр Прозоров - Любовь ифрита [СИ litres]](/books/394321/aleksandr-prozorov-lyubov-ifrita-si-litres-thumb.webp)