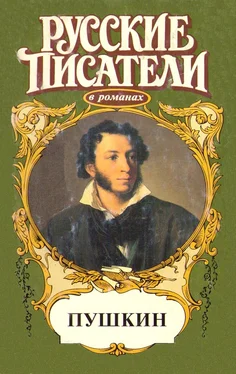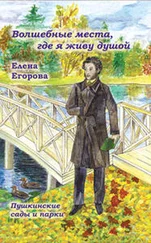Это утешало. Он вообще оказался скор на утешение. Душа отболела чуть не на той же неделе. Да и болела больше от недоумения: как был слеп! Прямо сказать! как он был слеп... Впредь он будет осмотрителен. Невозможно ещё раз не на тех, не на то поставить. И как злой шутке смеялся — победитель! Как бы не так. На роду ему, что ли, написано оказываться в дураках? Впрочем, те, кого повесили, и те, кто в каторге, проиграли ещё больше. Многим из них к тому же было что проиграть, кроме молодой жизни и молодой же гусарствующей свободы.
Ах, ах, матка боска, что-то будет...
При всём при том будущее его оказалось весьма успешно. Он будто из морока выпрыгнул и понял карту, которая шла в руки. Время такое приспело, его время. Не было больше громких речей. Оглядка больше не выглядела позорной. Оглядывались все, а многие принялись делать деньги.
У него неприметно оказалась сила: «Северная пчела» облетала всю империю и возвращалась с добрым взятком. Он мечтал о том, как блестящие умы придут под сей гостеприимный кров. Что же вышло?
Многие понимали: он старается главным образом из-за денег. Но было и другое. В нём подозревали отсутствие убеждений или лёгкую смену их. Во всяком случае, за ним укрепилось: Флюгарин. Они, эти брезгливые аристократы, считали: он туда клонит, откуда ветер дует. Им хорошо было скалить зубы: не они дружили с Рылеевым, не они оказались совершенно беззащитны. Вот именно, опять как лист влекомый...
Но думавшие так брали мелко. У него была (или вдруг проснулась?) жажда влияния. И, отгадав дух и направление времени, он служил ему с усердием и искренне.
Формула Уварова: православие, самодержавие, народность [107]— ещё не была произнесена, ещё зрела в умах. Ещё Александр Христофорович не вымолвил своего: «Прошедшее России удивительно, её настоящее более чем великолепно, что же касается её будущего, то оно выше всего, что только может представить себе самое смелое воображение». А Булгарин уже хорошо приметил: царь любит простых.
В бессонные ночные часы — Булгарин страдал бессонницей — он думал над тем, как показать себя уж таким простым, хоть на просвет рассматривай — одна наивная, припадающая преданность. Иногда ему рисовались картины сладкие, но совершенно невозможные. Прямо сказать — фантастические. Его лицо, несколько вспухшее от слёз, но вместе приятное силой чувств, прижимается к жёсткому шитью мундира. К груди государя императора. (Или хотя бы Александра Христофоровича?) И он, Фаддей Венедиктович Булгарин, литератор, не хуже других, указывает путь.
Видение было столь явственно и вместе с тем столь невозможно, что Фаддей всхлипывал, утыкаясь в подушку. Или садился на кровати, оттягивая ворот душившей рубахи.
Его и вправду душило. Злоба, зависть вдруг поднимались комом, он ничего не мог с этим поделать, хотя просил Господа Бога о ниспослании кротости, о том, чтоб душа его была освобождена... До Бога молитвы не доходили, а как же! К концу любой, самой короткой он начинал вдруг обдумывать очередную месть. Тем, кто человеком его не считает, кто не хочет доброго слова сказать о «Пчеле», ни о чём другом, его касающемся...
Перед собой доносами свои обширные записки в III отделение он, разумеется, не называл. Они были всего лишь средством вполне дозволенной борьбы, коль скоро речь шла об интересах государства, а не его, Фаддея Булгарина, как многие считали.
Дат государь чем дальше, тем больше любил простых, чрезмерная образованность вызывала в нём раздражение: он вспоминал Сенатскую.
Пушкин считал, что только развитие духовных сил и просвещение при существующем государственном строе сообщат России правильное направление. Уваров сказал (позднее): «Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовит ей просвещение, то я исполню мой долг и умру спокойно».
Булгарин сидел на обширной, выдвинутой на середину комнаты кровати, сердце в груди у него то билось, вроде овечьего хвоста, то вспухало. Если бы они все знали, как он торопился с приметами несчастного Кюхельбекера! Если бы догадывались о поручениях добрейшего Александра Христофоровича и милейшего Максима Яковлевича! Но они ни сном, ни духом знать не могли. А стало быть, не имели никакого права на то презрение, на то презрение...
Он тёр грудь и, чтоб утишить боль, повторял почти вслух им же самим придуманную формулу: шайка фрондёрствующих либералов. Дурно влияющих на молодёжь. Молодёжь, которая много может потерпеть от господ, надо прямо сказать, всё на свете подвергающих сомнению и осмеянию... Он всегда скорбел о молодёжи. Сами слова: скорбь, скорбеть, к прискорбию — ему особенно нравились. Они могли убедить; они свидетельствовали о простоте его души. О том, что не зависть, не месть им движут.
Читать дальше