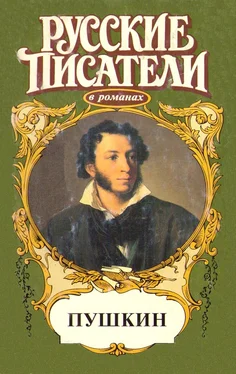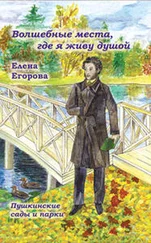— Забавно. — Дельвиг вытянул ноги, зажав ладони в коленях. Плечи его поднялись, он поглядывал на Пушкина искоса, проверяя для себя: а верит ли друг тому, что говорит? Или только хочет верить? — Забавно. Он тебя признал умнейшим человеком России и не ошибся. Тебе бы не ошибиться в надеждах своих.
— Меня, душа моя, за «Стансы» многие судили, но, я думаю, уроки и царям полезны.
— А ты уверен, что угодил его величеству с пращуром? У Николая Павловича может ведь тоже оказаться совсем другой список великих людей, чем у тебя для него.
Тут они засмеялись оба, с некоторым недоверием вскинув головы, как люди порознь, но в одно время дошедшие до удачной мысли.
...За наскоро приготовленным обедом со странной смесью бесшабашности и грусти они подняли первые бокалы в многозначительном молчанье. Потом Пушкин кивнул Дельвигу и сам прочёл его строки:
Выпьем, други, в память их!
Выпьем полные стаканы
За далёких, за родных,
Будем нынче вдвое пьяны...
Голос Пушкина был тих и глух, вроде бы не для этих восклицающих строчек, вино на этот раз не веселило, бокалы вернули на стол как-то нерешительно...
— Так ли, душа моя, Тосинька? — Он назвал его старым, лицейским именем.
— Так. — Дельвиг, опустив голову, блеснул очками. Тяжёлый подбородок его вздрагивал. — Наперекор всему — и тому, что тебе говорил, — я верю: встретимся...
— Для сердца нужно верить... — Однако Пушкин усмехнулся с видом человека, вовсе не укреплённого верой.
Что так? Или, несмотря на все предыдущие разговоры, в некие посулы царя верилось плохо? Или строчка из давнего юношеского стихотворения была хоть и кстати, но так далеко от нынешних забот?
— Я обещал Марии Волконской встречу, когда провожал её к мужу из Москвы в Сибирь. Вот поеду в Оренбургские степи за своим Пугачёвым — заверну...
Они были так молоды, у них ещё было время для надежд, и мечты ещё посещали их. Мечты о встречах, о дальних странах, о прекрасных мгновениях любви, о детях, наконец. Мечты даже о будущем ещё не рождённых детей. А также — о Славе... Впрочем, слава уже была. Они, особенно Пушкин, жаждали теперь влияния. Стало быть, постоянными оказывались мысли о собственном журнале, о собственной газете, которые они заведут, дай только оглядеться — не чета суке «Северной пчеле» и гораздо лучше «Телеграфа», Бог с ним, с Полевым...
Они были ещё так молоды, глаза при многих случаях сияли, и ослепительные зубы обнажались в улыбке влажно, выпукло от этой молодости. Волосы их были ещё упруги и обильны, у Пушкина вились круто, в каждом кольце играла крошечная радуга... И ощущение недавно полученной свободы ещё волновало кровь, ещё не стало окончательно привычным для Пушкина.
Вечером всем обществом поехали к старикам Пушкиным. Это было выдумкой Дельвига, который с самой осени двадцать четвёртого года старался помирить Сергея Львовича с сыном, хотя бы заочно.
Прежняя светская, неразборчиво пёстрая жизнь отплывала от Сергея Львовича и Надежды Осиповны весьма приметно. Скудели силы; убывали возможности; имения существовали где-то сами по себе, принося больше неприятностей, чем дохода, как по крайней мере казалось. Теперь они жили, радуясь случайным гостям, перебирая при них и наедине друг с другом подробности московской полуродственной, полудружеской толкотни. Карамзина вспоминали особо и опускали глаза от огорчения.
С приходом Дельвига начинались слабые, сами себя перебивающие хлопоты. Однако новые свечи всё же несли, появлялся и чай, иногда бутылка славного вина. Надежда Осиповна, неприметно для себя самой, величественным, почти забытым движением раскидывала по плечам жёлтую, тоже стареющую, шаль. Сергей Львович, набираясь решимости, ёрзал в глубоком кресле, готовился к осуждению Сашки.
Ах, если бы он знал, с чего началась вражда! За Александром накопилось столько непростительного. На каждом углу кричит, обвиняя старика отца чуть ли не в доносительстве — возможно ли?
Сергей Львович поднимал палец, веля прислушаться к своим словам. И сам клонил ухо, будто слова его, как мухи или осы, ещё бились об оконное стекло, когда он замолкал. А возможно, Сергей Львович прислушивался к умершим звукам той давней ссоры с сыном? И сознание своей неосторожной вины заставляло его злиться? Во всяком случае Дельвиг думал так, иногда изумляясь мелочности старика до того, что рот сам по себе открывался, как в детстве.
...Да, Александр числит отца во врагах своих, а он простил ему всё по-христиански и готов любить. Однако не может ли Дельвиг объяснить непочтительному сыну: теперь, после ссылки, зачем ему ездить в Михайловское? Он путает этим планы родителей. Михайловское же не принадлежит Сашке ни единой былинкой своей...
Читать дальше