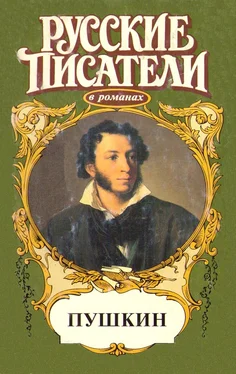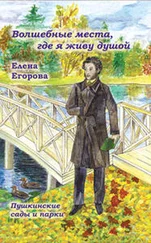— Пушкину, незабвенному, такой ли памятник приличествовал?
Прасковья Александровна незабвенному произнесла с такой горечью, будто намекала: да, для неё и её близких — незабвенный, а для вас — как?
Однако Наталья Николаевна не вскинула на эти слова голову, но, напротив, — слегка наклонила: кротко. Ничто, никакая суетная малость не могла её затронуть в сей миг, перед тем, как она подведёт детей своих к священной могиле. Чтоб подчеркнуть именно это состояние и решение, Наталья Николаевна несколько секунд просидела на старом канапе и вовсе потупившись, опустив роскошные плечи, надёжно скрытые простеньким домашним платьицем. Только рука её сжала руку Александры до боли, прося угомониться.
После этого Наталья Николаевна подняла наконец глаза.
Особая сила заключалась во взгляде из-под бархатных («Совершенно бархатных!» — подумала Прасковья Александровна) ресниц. И ещё подумала: это и есть гений чистой красоты. А он дурёху Керн вздумал величать, которая подолом перед кем только не мела.
...Позавтракав, сели в экипаж, поехали в Святые Горы.
Ехали к могиле Пушкина. То есть к самому концу той удивительной жизни, какую они четыре года назад склонны были считать обычной, отпущенной им не великой снисходительностью случая, не исключительной милостью провидения, но выпавшей просто, как выпадает любой жребий. И то сказать, долго ли будешь удивляться жизни, какой живёшь? Ну, может быть, первый год усердие Петербурга, восторгавшегося её красотой, Наталью Николаевну удивляло. И Александра Николаевна запросто, в качестве родственницы попавшая в дом к своему любимому поэту, весьма возможно, первое время вздрагивала: за что такое? По какой милости? А потом стало обыкновенно. И сегодня, и завтра, и послезавтра — будет.
...Итак, экипаж на мягких рессорах, то припадая, то пружиня, катил по просёлочной дороге; и птица трепетала над ним в вышине; и среди поспевающих трав, у ручья, вдруг мелькнуло голубое озеро незабудок, как бы ручей в него вливался. А лютики цвели своими наивно-ядовитыми жёлтыми цветами, как в калужских низинках. Жизнь продолжалась. Жизнь продолжалась — другая, из которой, как из некоего окошка, было видно — до чего же много они потеряли...
Дети были тихи, только Наташа думала, что они и вправду едут к отцу, и совершенно изводила душу, пытаясь узнать, какой он. Не какой он был — о чём и она и Александра с детьми говорили часто, — а: какой он?
Старшие, одёргивая её, потихоньку приказывали:
— Не спрашивай маменьку, у неё головка болит.
— У Ази — тоже? Тоже головка болит? И у папа?
— Там нет папа, там только могилка, вот как эта травка, и больше — ничего. — Маша лепетала по-взрослому, пыталась объяснить то, чего сама не понимала.
— Мы едем на травку?
...Там действительно была травка, густой заплётшийся дёрн, на аккуратном холмике, таком аккуратном попечением всё тех же тригорских соседок.
Наталья Николаевна сначала стала на колени, потом почти упала лбом в сплетённые пальцы, и всё глубже ей хотелось вдавиться в сырой податливый войлок дёрна. Запах у самых губ стоял острый, различимый, в две струи, в два говорящих голоса. Пахло отжившей прелью, корневой влагой и сильно — новыми ростками. Она говорила с Богом словами обыкновенных, с детства заученных и с детства же милых молитв. Но ещё поверх этих, всякому доступных, шли другие: всё её существо просило защиты. Защиты от всего, что было жестокого, коварного, грубо толкущегося, требующего денег и протекции, просто тяжёлого для её женского естества — вот что ей нужно было. Защита. Защищённость. Или иными, непроизнесёнными словами: посмотри на сирот и осени своей безграничной милостью, потому что не то что на детях, даже на мне нет никакой вины, кроме неразумности. И нет никого, кто помог бы мне поднять их, ты видишь, Господи...
И ещё, особенно горько, она плакала о той юной женщине, сидевшей на вытертой медвежьей шкуре, положив голову в колени мужу. Муж выбирал шпильки из её мягких волос и пальцами вытирал детские глупые её слёзы, а ей казалось: нет на свете ничего необратимого и ничего, что обрывается окончательно, бездной смерти, например. И пожалуй, ничего по-настоящему страшного не существовало для той молодой дурочки, кроме снов о маменькиных тяжёлых пощёчинах, кроме неумолимого приближения родов да нищенски злобного завывания вьюги у ворот. У неё была привычка всем телом жаться к мужу, легко и неразборчиво отдавая ему свои сомнения, обиды, тревоги, даже тайны — пусть разрешит, отгонит, выберет выход.
Читать дальше