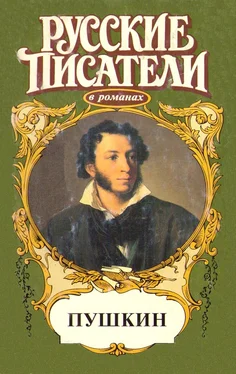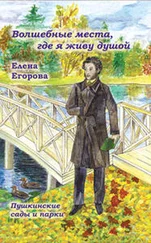Но будить никого не стала, ехала тихо и задумчиво, примиряясь с этой землёй, которую никогда не видела, к которой никогда не испытывала любви...
Это была земля Вындомских, Ганнибалов, Осиповых, Вревских, то есть, по существу, всех, кто не знал её вовсе или был знаком мимолётно и всё-таки не любил. Но это ещё была земля Пушкина и няни... Няня тоже была ей непонятна и вызывала чувство, похожее на ревность. И «Зимний вечер» был непонятен, она так и не смогла представить себе, что кровля, шуршащая соломой, это и есть кровля, шуршащая соломой, и у окна действительно сидит Пушкин... Всё было чуждым, неузнаваемым для неё в этом стихотворении, и удивляли Машины слёзы, однажды пролитые почему-то именно над синицей, которая тихо за морем жила...
...Наталья Николаевна сегодня с утра, но особенно подъезжая к Михайловскому, оглядывалась на сосны. На любые сосны по дороге, и представляла, как Пушкин шёл мимо тех сосен к соседям в гости: странно, в крестьянской рубахе, подпоясанный платком, и два кудлатых дворовых пса бежали чуть впереди, оглядываясь на него...
Ещё она представляла Святогорский монастырь, ярмарку и опять странного Пушкина, поющего вместе со слепцами или уж совершенно несообразно покупающего, прямо в подол рубахи, апельсины — неизвестно как завезённое в эту глушь невиданное лакомство.
Ей предстояло войти в мир, который не был похож на привычный петербургский или на привычный калужский. И в Яропольце, заросшем репейником и лебедой, куда удалялась мать, чтоб никто не мешал топить свою неудачную жизнь, — тоже всё было не так. В Яропольце, хоть штукатурка кое-где обрушилась до кирпича, жило воспоминание о прежней, не столь уж давней пышности. И соседи были другие, по-другому знавшие её. Соседи Загряжских. Здешние были — соседи Ганнибалов. Её окружат здесь, скорее всего, сумерки и враждебность.
Ничто за окном кареты, кроме внезапного розового, но уже потухающего света, не вызывало умиления, только настораживало. Никто не ждал её в Михайловском ни с лаской, ни с приветом, ни хотя бы с хорошо отремонтированными полами и дымоходами. Осипова отвечала на письма и просьбы сухо, но вежливо. Евпраксия Вревская (прежняя «кристальная» Зизи, так и мнившая себя в том же качестве застывшей) при встречах в Петербурге не давала себе труда даже изобразить расположение. В усадьбе же, после няни, если кто и помнил Пушкина, то как простого барина, согласного на печёную картошку да гречневую кашу. Между тем она везла сюда детей...
Было время, сразу после того как она стала вдовой, ей захотелось тишины и чтоб даже письма не приходили. Когда толпа собралась под окнами, а Пушкин ещё лежал в гробу, все думали, она не видит, не слышит, не понимает, что вокруг. Но она слышала и понимала, что это значит, когда прямо в открытые двери парадного залетело: «Женщина осиротила Россию!» Она забилась в дальние комнаты не только от страха одиночества, от тоски, оказавшись без привычной защиты, без его самоотверженной любви, в которой не было сомнения. Она испугалась расправы самой прямой.
И сейчас опять боялась встреч и обвинений. Мстить ей в её положении было очень легко.
...Необходимость вытряхнула её из привычного, глухого, но мягкого футляра вдовства и приказала действовать. Надо было преодолеть себя, поехать в Михайловское. Надо было сделать так, чтоб у Пушкина наконец была могила, достойный памятник, а не холмик, наскоро набросанный над гробом. Надо было приехать сюда с детьми, чтоб на неё не накинулись с новыми осуждениями: «Хотя бы догадалась деток привезти на могилку». Эту фразу и притворно сладкий голос, который должен произнести её, она услышала от Александры несколько дней назад.
Александра от злости рвала мокрые, скрученные жгутом носовые платки и предсказывала всё, чем встретит их Михайловское, с чем встретятся они в Тригорском...
Это будет, как если бы сунулись они на пасеку тревожить пчёл — так говорила Александра. И в то же время непоследовательная, как всегда, торопила её, будто в Михайловском они могли ещё застать живого Пушкина. Не того, какого знали в действительной жизни, в своём доме. Не того, чью мучительную, невозможную для воспоминаний смерть они обе видели.
Совсем другого, молодо, весело идущего в Тригорское. Ещё незнакомого им, хотя старшие сёстры зачитывались его стихами, особенно Александрина. Тот Пушкин спешил по светлой и сейчас видной тропинке, между полями, мимо сосен — в гости. У того Пушкина было другое лицо, другая походка, и он всё ещё шёл в Тригорское, что было обидно до боли в сердце. Потому что она была жадна и ревнива, а вовсе не равнодушна, в чём обвиняли её многие. Она предпочла бы, чтоб его жизнь вообще началась при ней и не существовало бы в этой жизни никаких тригорских барышень. Тех, которые в её воображении, давно перестав быть барышнями, всё ещё играли ему Россини. А он всё ещё отплясывал с ними, не чинясь, какой-то особый вальс-казак и галоп через все комнаты григорского дома.
Читать дальше