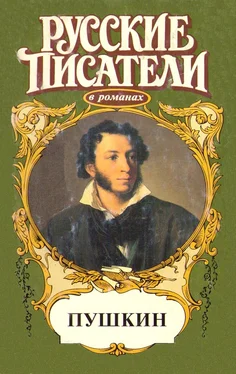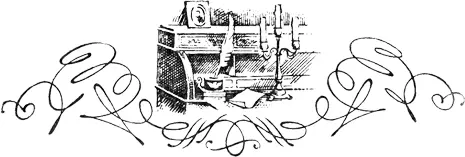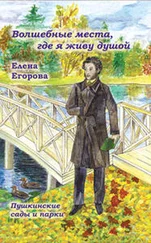«Он надеется образовать её по себе...»
Большая лампа над круглым столом освещала задумчивые лица княгини и Пушкина. Руки их над яркими, весёлыми плодами двигались медленно, словно нехотя, а лица не были обращены друг к другу. Княгиня Вера рвала оранжевые корки на мелкие кусочки. Она была маленькая, но порывистая, и оттого казалась выше. Лицо простое, с очень светлыми, готовыми к сочувствию глазами: славная баба, как он когда-то говаривал; славная тётка. Не из тех московских тёток, коих он боялся и ненавидел: всем предлагающих свои рецепты на соленье, варенье, свадьбы, проводы и чины. А просто тётка, почти родня. Посажёной матерью будет на свадьбе. Кому же, как не ей, быть посажёной?
Княгиня наконец оставила свою ненужную работу, платком тщательно стала вытирать руки.
— Бывало, вы отмечали лиц совсем другого толка. И верили в себя, бывало, больше: в иные времена, в иных краях.
— Бывало, княгиня, — согласился Пушкин с глубоким вздохом. — Даже: бывывало, княгиня прекрасная и добрейшая. И ещё вернее: бывывывало.
Он невесело рассмеялся давней шутке Крылова.
— Бывывывало, да быльём поросло, стар становлюсь. Так что, душа великодушнейшая, не судите меня. И без вас охотников хоть пруд пруди и повздыхать, и позлословить, так и слышу их за спиною: странная вещь, непонятная вещь. Зачем женится? Зачем выдают?
— Александр Сергеевич, я ли вам...
Она хотела сказать: «Я ли вам не друг искренний и преданнейший», но в горле что-то пискнуло, лицо её стало жалким, когда она взглянула на Пушкина. К чему бы это? Неужели и она не верила в возможность его счастья?
Они сидели на угловом диване, и Пушкин вдруг, не поднимаясь из-за стола, свалился к её ногам, упал, уткнулся в синий бархат подушек, в синий шёлк её платья, в свою тоску.
— Не хочу, — сказал он глухо. — Никакого снисхождения никогда ни в ком не хотел и не хочу. А ведь клялся, недоумок, недоносок несчастный, будто одного терпеливого равнодушия мне будет достаточно...
Он ударил обоими кулачками в диван, поднимая голову. Лицо его было нехорошо.
— Я перед ней робею, княгиня, как ни перед кем не робел. Уж очень, верно, люблю... Насмерть люблю.
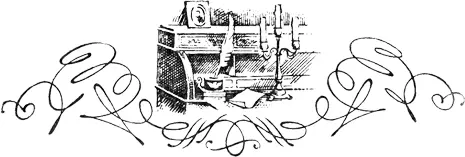
очему так сладко, так легко писать о Пушкине? Ложишься ночью, окончательно выжатый, сил нет донести голову до подушки. А донёс — сразу мысль: завтра проснёшься, и снова ждёт это свидание — не свидание, работа — не работа; состояние... Когда ты, кажется, рукой чувствуешь, а не только вспоминаешь белую краску дверей на Мойке, масленый холодок бронзовых ручек, вывешимаемый Жуковским бюллетень, от которого слёзы начинают литься сразу и неудержимо...
Почему так горько пишется о Пушкине?
И почему больше всего хочется рассказать о его письмах?
Сколько себя помню, чуть не ежегодно перечитываю письма Пушкина. В мировой литературе не много найдётся романов, подобных тому, какой составляют они, собранные вместе, снабжённые комментариями, дополненные портретами адресатов, тем, что копилось в нас чуть не с младенчества. Да что там — роман! Целая эпопея разворачивается перед нами во времени и пространстве, сравнимая разве что с «Войной и миром»...
Сколько исторических событий, характеров, идей, блестящих картин, несравненных выражений находим на страницах, вроде бы отнюдь не предназначенных для массового чтения.
А какое движение сюжета? Какая динамика, наращивание, изменение характеров? Но скажем главное: какой герой! Пушкин, очевидно, любое время сделав своим, тем самым сделал бы примечательным, если не замечательным. Но он родился под счастливой исторической звездой: свидетель блестящих побед русского оружия; современник борьбы Балкан за своё национальное освобождение; друг декабристов, сам возбудитель их идей... Человек, мечтавший наконец пробиться к самодержавному уму, убедить: к вещим волхвам стоит прислушаться. Глядишь, они правильно подскажут, куда ведёт эта дорога, а куда — та, и вообще: «Что сбудется в жизни со мною?»
И всё это лежит перед нами, упрятанное в один или два томика...
Начну с самой звонкой, самой радостной ноты: «Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная. Таким образом, «Годунова» тиснем». Это из письма Н. М. Языкову [140]в Дерпт из Михайловского, куда Пушкин, свободным, вернулся ненадолго. 9/XI—1826 г.
Однако уже 29-го того же года и месяца Погодину в Москву он пишет:
Читать дальше