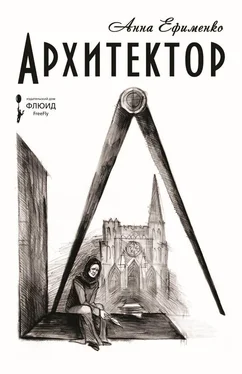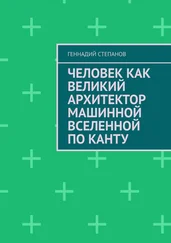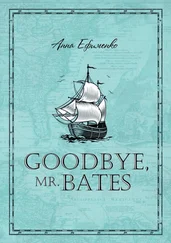Агнесса была хорошо воспитана, владела манерами. Пока все трудяги богатели, умники учились трудиться. Лить стекло, лить воду в грязные рубахи. Когда я спросил, сколько ей лет, не поверил, ведь уже дважды могла выйти замуж, а она лишь каялась: «Да, сеньор, я приложу старания и устрою свою судьбу». Да, мой сеньор, да, да, конечно и всегда да. Не скалилась до зубов, не напрашивалась на комплименты, не навязывала себя.
Я покупал Агнессе ленты, гребни, перчатки, броши, отрезы шелков, граненые рубины, жемчуга из-под морей, дорогие меха. И цветы, и флероны-крестоцветы, выраставшие на фасаде, я ей посвящал. Подарки передавал через Люкс, все еще дувшуюся на меня, но исполнявшую просьбы за щедрый кусок медового пирога и мое «почти любовника» объятие. Нечестно было использовать ее и играть на ее посредственности, но иначе поступить не мог.
Добела раскаленный железный, я расхрабрился назначить Агнессе свидание.
Мы встретились на опушке леса, за изгибом реки. Вдвоем, в этой духоте невысказанного, в хрупкости и неподъемной тяжести.
– Я давно должен сказать, что люблю вас.
Наверное, мы задумывались как нежные, а жизнь распоряжалась иначе: у меня и Агнессы были одинаковые по структуре руки, одинаково белые, но шероховатые на ощупь. Мел, песок, каменные частички, забившиеся под моими ногтями, всегда срезал их как можно короче, но стройки стесывали пальцы; ее были такими же, чистотой выстиранные, выцеженные, тонкокожая ткань, белые лилейные лепестки.
Не трогай меня, небесная невеста, иначе сие мгновение расплещусь прорванной плотиной нежности, запрудой миндального молока любви; не прикасайся ко мне.
– Чего вы боитесь?
– Греха.
– Так уходите.
– Не могу, – я перехожу на шепот.
Тысяча плетей ударяют под колени. Агнесса расшнуровывает мою камизу, та еле держится на плече, истыканном мастерским ножом.
– Что вы с собой сделали? – по ее лицу вдруг пробегает тень отвращения.
– Заставлял себя перестать о вас думать, – я фиглярски пинаю корягу. – Все провалено! Я люблю вас, Агнесса, люблю вас до судорог!
Жужжание пчел, пение птиц в ветвях, в нашем внезапном безмолвии, в прерванном вдохе. Цветок страсти одерживает верх над цветком непорочности, опрокидываются чаны красильщиков в их лачугах вниз по реке, нас заливает багрянец смущения.
– Меня никто не любит, – горько замечает она.
Тут я осмеливаюсь поднять налитые горячим, липким нектаром веки и взглянуть на нее в упор:
– Меня тоже.
Шумит листва, густые дубовые рощи стирают кожу корой, рассыпаются желудями. Полдень отбивает городской колокол где-то за полмира отсюда. Раскрываются объятьями влажные, полные дождей облака и плачут, и смотрят на то, как здесь и сейчас, на изумрудном ложе мягких трав, на друг друга бледных ладонях, на черночревой бренной земле, на горбатых корнях деревьев, лежим такие сломанные мы.
В ту пору занимались сводом – вырезанные и ровно подогнанные камни для него строго охранялись, перевозились в телегах с большой осторожностью; трудности с поставкой материала и нехваткой хороших мастеров заботили всех, кроме, как ни странно, меня самого.
Я дожидался встречи с ней и неистово хотел этого ожидания. Сладоточивый, лью масло в плошку с фитилем всю ночь, дурную ночь, долгую ночь, невозможно дышать. Когда взойдет солнце, буду ждать открытия лавок; медь звякнула на ветру, туман с утра задушил. Заторгуют – буду ждать полудня. Глухой тиран-колокол оповестит: се-ре-ди-на дня! Распечется небо, разогреется, разлетится воробьями по крышам. Тогда я выжду, когда она вернется с реки, грохнет пустую бадью на пол, закончит свои постирушки, выплещется, выработается и – о, я мечтал! – успеет соскучиться по мне. Подумать – почему он до сих пор не объявился, ведь уже и день клонит ко сну. Почему? Он весь в делах, в своих важных свершениях, прокапывает себе дорожку в государственных летописях – но так скромно, такой скромняга! О, я мечтал – Агнесса думает: а он ничего. Все еще ничего. Но только не больше: красавчик. Как все они говорили. Красавчик и умница, вон чего настроил!
Отражение свое я теперь изучал придирчиво, напряженно. Облик поменялся с годами. Я больше не был нахальным расстригой с нимбом гениального юного подмастерья над головой. Пролегли две продольные морщины от переносицы наверх. Теперь моя лелеемая худоба выглядела зловещей, скулы высились надменной рамой, ввалились уже насовсем в голодную пасть дряблые щеки, со лба ниспадали надоедливым покрывалом темные пряди, отбрасываемые назад нетерпеливыми руками в их изломанных прямых углах, в их вечных судорогах. Зрение ухудшалось, чем старше, тем мутнее, отчего приходилось щуриться, слегка приподняв подбородок, благодаря чему внешне я выглядел высокомерным.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу