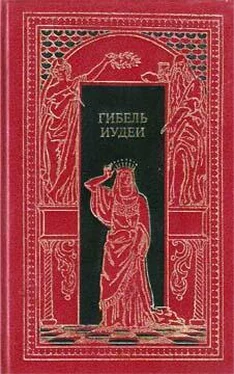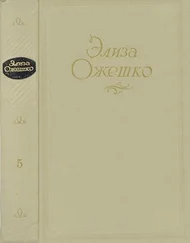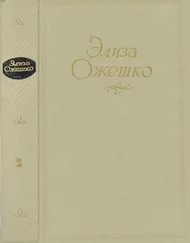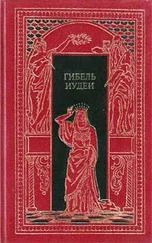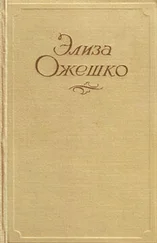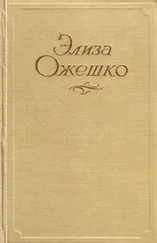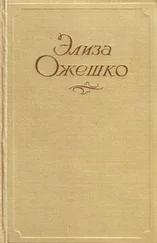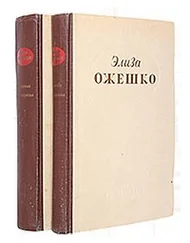У собравшихся женщин был менее печальный вид. На фоне холодного мрамора, украшающего стены, было много молодых, свежих лиц, с которых даже торжественность минуты не могла согнать улыбок. Там и сям сверкали золотые повязки, из ушей свешивались драгоценные серьги, на шее мерцали ожерелья.
Вдруг перешептывания, вздохи, обмен приветствиями смолкли, и по ступеням, ведущим на кафедру, поднялся человек, высокий и худой, одетый в римскую поношенную тунику, с головой, поросшей лесом черных, растрепанных волос. Впалые щеки его загорелись румянцем, он посмотрел вокруг взглядом, рассыпающим пламя, и, откинувшись назад, распростер руки, как крылья. В эту же минуту с громким скрипом плотно закрылись высокие двери храма.
Было тихо и ясно. Серебряный полумесяц, выплыв из-за темных садов Цезаря, светил с сапфирового свода, усыпанного множеством искрящихся звезд. Транстиберим, со склонами двух холмов, покрытых темной чащей садов, со скучившимися у подножия одного из холмов низенькими, плоскими домами, спал. За рекой, на своих семи холмах, поддерживая тяжелые купола храмов и базилик, темные своды арок и серебрящиеся при свете луны колонны портиков, Рим засыпал под звездным сводом. Иногда только где-то на улицах и площадях Авентина раздавался среди тишины, подобный глухому грохоту, мерный топот множества ног. Это ночная стража обходила уснувшую столицу.
В этой глубокой тишине в иудейском квартале, за запертыми дверями храма, слышался мужской голос. Каменные стены и плотные двери поглощали слова говорящего, но звуки голоса его, глухо вырываясь наружу, казались бесконечным речитативом, который минутами протекал тихо и спокойно, потом снова шумел, как подымающаяся буря, то поспешный и задыхающийся, уподоблялся водопаду, скатывающемуся по склону скалы, то гремел боевыми трубами, стонами умирающих или же разливался в безграничную жалобу, в плач беспомощного ребенка… Порой слышались слова: голод, ночные вылазки, Рим, Идумея, Тит, Иосиф Флавий, Иоанн из Гишалы. Когда в первый раз произнесено было имя Иоанна из Гишалы, вздох вдруг вырвался у всех. При имени самого усердного из ревнителей, самого упорного из защитников Сиона, все сердца учащенно забились. Ионафан рассказал не только о войне, законченной бедственной осадой столицы, но также и о собственном бегстве из рук врагов и о долгом скитании в течение нескольких лет по негостеприимным городам Сирии, морям и островам Греции, по знойным и безлюдным пустыням Африки. В конце он показал короткий, искривленный меч Иоанна из Гишалы.
Все встали. В жарком воздухе громадной залы, в туманном свете ламп лес рук тянулся к кафедре. Все уста были открыты, глаза всех были устремлены туда, где, царя над этим человеческим водоворотом, Ионафан, с жреческим достоинством, склонял к их устам стальной, обоюдоострый меч, напоминающий о великом муже. Они плача разглядывали оружие, прижимались к нему своими губами. Забывая о предписаниях обрядов, женщины смешались с мужчинами и также подходили к народной святыне. Там были матери, жены и сестры тех, которые погибли, сражаясь рядом с Иоанном из Гишалы. К холодной поверхности стали прижимались губы юношей и девушек, и ее обливал дождь слез, капающих из глаз, потухших и наболевших.
Горий, сторонник кроткого учения Гиллеля, несколько раз склонялся над оружием героя и несколько раз отворачивал от него пылающее, страдальческое лицо, пока наконец губы его долгим, любовным поцелуем прижались к холодной стали. Однако он тотчас выпрямился, простер к алтарю руки и воскликнул:
— О, Предвечный! Взгляни, что с народом Твоим сотворили его враги! Вот он лобызает орудие смерти и отдает честь острию, проливающему кровь!
Ионафан молча стоял на кафедре. С гордостью медленно окидывал он взглядом храм, пока наконец не остановился на женской фигуре, которая одна, среди склоненных голов, стояла за блестящим золотом перил, прямая, неподвижная, всматриваясь в него, и в ее глазах ужас смешивался с благоговением. Толпа, которая несколько минут назад хлынула к кафедре, не увлекла ее за собой. Непреодолимым, леденящим ужасом охватили ее развертываемые Ионафаном картины страшных убийств и бедствий. Ни за что, ни за что на свете не могла бы она приблизиться к этому человеку, прикоснуться к этой стали, которая тысячи раз погружалась в кровь. Ноги отказывались ей повиноваться, кровавый туман застилал ей глаза, и только руки судорожно, с неожиданной силой сжимали перила. Однако же глаза, полные ужаса, смешанного с благоговением, она не могла оторвать от человека этого, который так долго боролся и страдал. Наконец она вдруг окинула взглядом волнующееся море склоненных к земле голов. Неизмеримое страдание отразилось на ее взволнованном лице. Она опустилась на колени, и слезы градом полились из ее глаз, когда в душном воздухе и тусклом свете храма послышались последние строфы песни:
Читать дальше