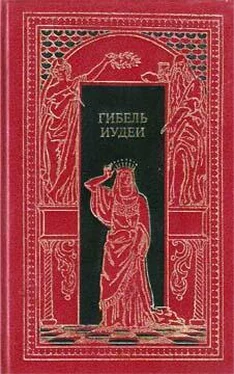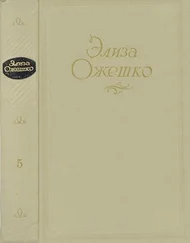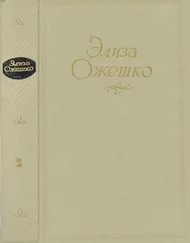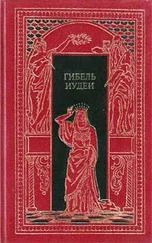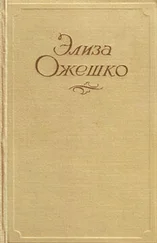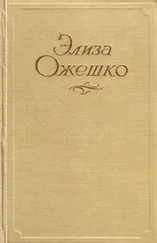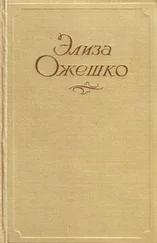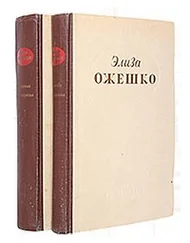— Отец мой старый Аарон, который вместе с тобой сидел в Авентинском портике, пришел сегодня в дом Сары чтобы вместе с Симеоном отправиться в священное собрание. Он также жаждет увидеть тебя, потому что ты всегда была жемчужиной для его глаз там, где вас обоих постоянно окружали одни чужие люди, — говорила сухощавая, бедно одетая девушка с бледным, исхудалым лицом и грустным взглядом больших вдумчивых глаз.
Миртала, которая, казалось, не слышала других своих приятельниц, закинула руку на шею робкой Ели, дочери старого Аарона, и поцеловала ее. Она всегда была ей милее всех остальных подруг, может быть, потому, что подобно ей умела импровизировать узоры для вышивки. Средняя дочка Сары, маленькая, живая, огненная Мириам, нетерпеливо стучала о землю своими сандалиями.
— Не думаете ли вы, — сказала она, — провести целый вечер у дверей Менохима? Вместо того, чтобы целоваться, взгляни на небо, Миртала! Прежде чем мы дойдем до дома наших родителей, солнце совсем зайдет.
Обнимающая шею подруги рука Мирталы внезапно соскользнула. Она посмотрела на небо, которое действительно уже начало облачаться прозрачным покровом сумрака. Из-за темных садов Цезаря выплывал белый рог полумесяца. Окидывая тревожными глазами лица подруг, она сказала быстрым, прерывающимся голосом:
— Идите в дом вашей матери… Я приду туда… Теперь мне надо идти…
Она сделала такое движение, точно не уйти, а убежать от них хотела, но вдруг, вся дрожа, с выражением неизъяснимой муки на лице, она остановилась и обеими руками уцепилась за шею Ели и проговорила:
— Я иду с вами… ведите меня…
Не обращая внимания на перемены, происходящие в ее словах, движениях, выражении лица, занятые сегодняшним торжеством, девушки повели ее к дому Сары.
У порога дома Сары Миртала остановилась и посмотрела в ту сторону, где за низкими, плоскими крышами предместья, высоко-высоко, словно под самым сводом серого неба, верхушка арки Германика еще пылала в последних отблесках солнца. Не обращая внимания ни на подруг, ни на других людей, которые были на улице, Миртала в отчаянной тоске протянула руку к этой одиноко пылающей среди темнеющего пространства полоске, и ее увлек за собой поток людей, спешащих к высоко возвышающемуся над другими дому молитвы.
Это было здание не только высокое, но и богато украшенное. Двери его, широкие, обитые красной коринфской медью, были раскрыты настежь. Обширная, освещенная множеством лампад, внутренняя зала сверкала незапятнанной белизной стен и потолка, среди которой блестели позолоченные перила, отделяющие ту часть храма, в которой сидели мужчины, от той, которую должны были заполнить женщины. У одной из стен возвышался алтарь, обрамленный золочеными колоннами, о которые опирались две доски, исписанные кривыми буквами, посреди которых пурпуровая завеса заслоняла полукруглое отверстие ниши, украшенное венками из высохших кедровых и оливковых ветвей. Золотые очертания букв, написанные на досках из белоснежного, прозрачного фенгита, были десятью Синайскими заповедями; в нише за пурпуровой завесой покоилась книга Израиля; увядшие ветви, увенчивающие отверстие ниши, были сорваны с кедров, которыми была покрыта гора Ливан, и с оливковых деревьев, венчающих Сион. Давно привезенные сюда, они увяли и иссохли, но их не снимали до тех пор, пока их нельзя было заменить свежими; огоньки, горящие в двух семисвечниках, ярко освещали алтарь и возвышающуюся рядом кафедру. С кафедры обычно читали и объясняли народу отрывки из Торы. В эту минуту кафедра была пуста.
Моадель, священное собрание, никогда еще не было таким многочисленным. С одной стороны золоченых перил уселись мужчины, с другой — скамьи наполнились рядами женщин. В многочисленном собрании этом можно было заметить одну особенность: почти полное отсутствие молодых мужчин. Кроме незначительного числа тех, по лицам которых можно было видеть, что они еще очень недавно перестали быть мальчуганами, там находились только мужчины пожилого возраста или старики. Целое поколение несколько лет тому назад, при вести о начинающейся священной войне, отправилось отсюда в далекую отчизну и — не вернулось.
Угрюмыми были длинные ряды смуглых, густо обросших лиц, оттененных складками чалмы; печально и траурно извивались черные каймы по белым шалям, спускающимся до пола по темным хитонам. Недавно еще шали эти ткали только из белоснежной шерсти; но с той поры, как в пламени пожара разрушился Иерусалимский храм, края их, у которых висели кисти, напоминающие о завязанном союзе с Господом, окружали черными каймами. Мудрецы, из которых состояло в Ябуе собрание совещающихся о будущем Израиля, полагали, что даже сам ангел Метатрон, покровитель и защитник Иудеи перед Господом, украсил теперь траурными каймами свои серебристые крылья.
Читать дальше