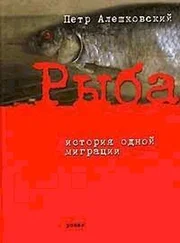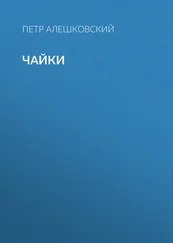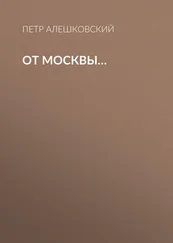Конечно же, в точности содержание документов он не помнил, но имена забыть не мог и все же понадеялся на удачу, ибо понял, точно понял, что требовалось подтвердить лишь сам факт писания, а потому облекал показания свои в расплывчатые фразы, основной упор делая на свою невинность. Он правильно почуял и точно потянул за спасительную ниточку. В конце, как бы подводя итог и не преминув выразить верноподданнические чувства, еще раз сделал упор на подневольности своего труда.
«В заключение, по совершенно чистой совести доношу, что я, кроме вышеобъявленного, ничего для Артемья Петровича Волынского не переводил и не сочинял, а к нему в дом приходил не токмо по его собственному приказу, но и по повестке из академической канцелярии. Что же касается до находящихся у меня вышеозначенных книг и переводов, то оные немедленно там представить не премину, где велено будет; и во всем вышеобъявленном, что оное с самою истиною совершенно согласно, подписуюсь».
Его отпустили, но скоро, когда у следствия оказались в руках неопровержимые «доказательства» заговора и ближайшие сотоварищи Волынского были схвачены, от него потребовали новых, более пространных показаний. Бирон торопил комиссию – смертельно напуганный возвышением Волынского, как-то незаметно вышедшего из повиновения и из подопечного, коего задумал как противовес хитрому Остерману, превратившегося в самовольного и опасного соперника, мечтал он теперь поскорее разделаться с ним и даже пошел ради его гибели на союз все с тем же ненавистным вице-канцлером, терпеливо дождавшимся часа своего торжества. Разыскная машина работала исправно, но все же, все же желательны были более определенные свидетельства, и нашелся наконец иуда, выложивший даже более, чем от него требовалось, – самый верный, самый дорогой в прошлом Волынскому человек – личный его ординарец, возвысившийся недавно до дворецкого, Василий Кубанец. Спасая свою жизнь, указал он на постоянно присутствовавших на домашних «заседаниях» единомышленников. Он же, видимо, обратил внимание и на близость Адодурова к делам своего опального господина. Столь рьяное усердие Кубанца было вознаграждено по закону: с него сняли обвинения, выпустили на свободу, а также, согласно указу, посчитав его оскорбленным, даже наградили деньгами. И вот, по вторичному навету, Василий Евдокимович опять предстал перед комиссией и опять вынужден был писать оправдательную. Но теперь, умудренный первым, удачно сошедшим опытом, он снова написал обстоятельно и, присовокупив небольшое количество новых данных, умудрился не назвать ни одного имени на бумаге, – он хорошо осознавал, что молчание – единственная надежда на спасение.
«По сущей правде и совершенно чистой совести, чрез сие всенижайше доношу, – сообщал он, – что Артемий Петрович со мною никаких советов и рассуждений ни о ком никогда не имел, и я, кроме того, что в первом моем известии обстоятельно показано, ни в чем не имею ни малого участия. Ибо, когда я бывал в его доме, то или сидел над переводом помянутой челобитной в одном из его покоев, или был при нем, но только всегда при многих других, а временем и знатных людей, которые многократно к нему приезжали. И так он разговаривал всегда с теми персонами, а со мною ни о каких делах, ниже о персонах не говаривал. Однако же между всем оным временем, когда я бывал в его доме, случалось однажды по утру, что он, пересматривая и переправливая частопомянутую свою челобитную, сказал, что я уже-де не знаю, как и быть: двое-де у меня товарищей, да один из них всегда молчит, а другой только-де меня обманывает. Но понеже в то время, кроме меня одного, при нем ни посторонних, ни домовых людей никогда не случилось, то я в том, кроме моей непорочной совести и сердцевидца Бога, ни на кого не могу послатца. А что опричь сих при таком, всякого человеческаго свидетельства лишенном случае произнесенных от него слов он со мною ни тогда, ни прежде, ни после, никаких рассуждений и разговоров, до каких-либо дел или персон касающихся, не имел, оное доношу по самой истине и несомненной совести».
Он был маленький человек, его простили. В Академии, взамен переводческой работы у Волынского, подыскали ему другое занятие, поставив учителем арифметики и геометрии при гимназии в главном немецком классе. Но то, к чему когда-то стремился всей душой, теперь не радовало. Он понимал, что карьера академическая кончена. Он стал замкнут, нелюдим, да и его сторонились, пока шло скорое следствие. Где, где он оступился, в чем согрешил перед судьбой? Он искал причину жизненной трагедии, искал и не мог найти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу